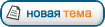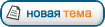|
Татьяна Левченко
САМОСОЖЖЕНИЕ
фантастическая повесть
ЭПИГРАФ
«До сих пор остаётся невостребованным вознаграждение… за предоставленные конкретные данные о поджигателях леса. Тем временем… продолжаются подозрительные пожары, тушение которых требует огромных средств… наносит невосполнимый ущерб природе. Анализ показывает, что в ряде случаев злоумышленники пользуются специальными пиротехническими средствами.
Очередной пожар вспыхнул сразу в пяти местах…»
из газет
«Когда сгорает тело – остаётся горсточка праха. Когда горит душа… Что остаётся от сгоревшей невидимым пламенем души? Остаётся свет её, уносящийся в Вечность Космоса. Остаётся энергия излучения её, озаряющая всё, чего коснётся, непознаваемо ясным свечением, облагораживая, очищая. Ведь энергия души сгоревшей не может по сути своей быть никакой иной: души тёмные, смутные никогда не горят.
А душа, пошедшая на самосожжение, она – наивысшей чистоты. Ибо только абсолютно незамутненная ни йотой сомнения, ни граном тщеславия, способна на самопожертвование…»
(из записной книжки Андрея Осина)
ПРОЛОГ
Город просыпался медленно. Казалось, за долгие месяцы тревожного напряжения, жители решили разом все отоспаться в это утро. И непривычная даже для рассветных часов, тишина, плыла в пустынных улицах.
Солнце взошло, и лучи его, ещё никем не увиденные, пробивались сквозь теперь не опасную, не грозящую бедой дымовую завесу. Лёгкий ночной туман поднимался, унося с собой остатки дыма и копоти ввысь, где разгонял, развеивал его верховой ветер, очищая небо для солнечных лучей.
В тягучей сонной тишине лишь один звук появился: лёгкий ритмичный стук, сопровождаемый характерным пошаркиванием. Это известный городской бомж Саша, опираясь на маленькие костылики, шаркал скрюченными обезьяньими ножками, направляясь к «своему законному» месту у центрального рынка. Во всём городе пока лишь он один был свидетелем непривычного уже, солнечного рассвета. Но, кажется, не замечал его, весь погружённый в сосредоточенность: требовалось слишком много усилий для перемещения неуклюжего тела и слишком много времени, чтобы добраться до «своей» стены, где навес близстоящего киоска защищал и от зноя, и от непогоды.
Когда Саша устраивался под навесом, раскладывая на лежащем у стены валуне вытащенные из-за киоска куски картона, солнце взошло уже довольно высоко, и город весь наполнился обычным шумом, говором, громыханием. На столбе посреди рынка ожил репродуктор, вялым голосом местного диктора сообщая согражданам вчерашние новости и прочую ерунду, к которой, впрочем, никто не прислушивался. Разве что Саша. Поскольку делать пока было нечего: народ, хоть и стал прибывать, но не тот, кто был бы ему полезен. В смысле, на утреннюю кружку пива от этих хмурых, спешащих скупиться перед работой, женщин, он не наберёт. И не ждал. Вот немного погодя, когда потянутся через рынок, где раньше всех в городе открывался пивной ларёк, мужики, – тогда и на пиво наберётся и на непритязательный Сашин завтрак. А то и газетку, какую подешевле, можно будет взять в этом же киоске, как подвезут свежие.
Уже проснувшимся голосом диктор читал сообщение из пожарной части. Саша понемногу прислушивался к передаче, тихонько комментируя про себя.
Ну да… А то неясно и так… теперь-то, после вчерашних чудес, все знают – погасли посадки-то. И никакой там чести этим пожарным нет.
Ведь сколько мотались они, только воду переводили. А деревья горели… Горели! И никто не мог сказать – почему, отчего. Всё поджигателей искали. Люди поговаривали: исполком даже а-агромную премию обещался, если кто скажет за поджигателей-то. Говорят: так никому и не дали. А то вот на днях он забрался в посадки вздремнуть (занесла нелёгкая в экую даль!)… Налетели, потаскали выяснять, не видел кого, не жёг ли костров.
Да какие костры?! Когда сам, своими глазами видел: вдруг, ни с того, ни с сего вспыхнуло дерево, другое… И звон ещё стоял… Такой звон, что душе больно было слушать! Он перепугался тогда не на шутку, только д давай Бог ноги, которых с рождения-то не дал, как у всех людей.. А тут ещё эти пожарные: «что, как, почему?» А он, Саша, знает – почему?! Им жить надоело, сгореть решили… Что он, за них отвечать должон?!
Ну, помыкались эти, в зелёном, покрутили пальцем у виска, да и отпустили с Богом. Там тушить-то нечего было: как вспыхнет дерево, так и сгорит в момент. Разве что трава вокруг припалится. А чтоб переметнулась пламя – нет, того он не видел. Если дерево не хотело гореть – оно и не горело. Так он и объяснил этим зелёным. Да им разве ж объяснишь?!.. Теперь вот, в заслугу приписывают: погасили-де, нет больше очагов возгорания. Тьфу ты! Весь же ж город почитай видел вчера: упал на всю округу странный, лиловый какой-то, туман – всё и прекратилось. Только один дым и остался. И тот вон, сейчас уже развеялся. Ни при чём здесь ни пожарные, ни их «дружные усилия».
И комиссия эта… Понаехали из самой столицы. Вот, передают: ходили на пожарище, смотрели… Ну что они делали-то тут?! Что выяснили? Молчат. Мол, сведения собрали, поедут в свои столицы, обобщать, выводы делать. Да разве ж тут сделаешь какие-то научные выводы?! всё дивно, всё странно. Ох, ох! Всё в руках твоих, Господи! А они до всего докопаться хотят…
Сводка новостей закончилась. Другой, молодой женский голос из радио передал:
– А сейчас, дорогие сограждане, в эфире передача «Наши таланты». Свои стихи читает городской поэт Андрей Осин, – и, немного помявшись, пошелестев чем-то в микрофон, грустно так, дикторша добавила. – С прискорбием сообщаем. Как только что стало известно: вчера, во время последнего лесного пожара Андрей Осин погиб, оказавшись в самом эпицентре…
Саша вскинул голову. Сердце его при последних словах дикторши непривычно сжалось в комок, замерло, а после вдруг зачастило, как сумасшедшее.
**********
Андрюху Саша знал с тех ещё пор, когда тот бегал шкетом голоногим. Сам Саша был тогда значительно, ой как значительно, моложе! Жили они поблизости. В тех старых улочках города, где дворы, непостижимым образом перекручиваясь и петляя, сплетаются друг с другом.
Это потом, уже школу заканчивая, Андрей с родителями переехал куда-то в новые кварталы. А Саша, он ведь только так считался бомжем, из-за модного словечка. Потому, видно, что давным-давно посеял где-то свой паспорт, а о новом и не думал. На кой он ему: Работать никогда не работал, а, значит, и пенсии никакой. Оформить инвалидность не мог, потому что уж сколько раз в больнице теряли и снова заводили историю болезни, и ничего им не докажешь. В конце концов, Саша вовсе перестал к врачам обращаться. Как жил, так и живёт в своей хибарке, от матери ещё доставшейся, в одном из тех запутанных дворов. Люди, слава Богу, добрые не перевелись: и дровишками зимой помогут, продуктами, деньгами ли, одежонку-обувь принесут… Много ли ему надо…
Так вот, Андрюха-то… Тот всегда был каким-то особенным. В отличие от прочей детворы, не дразнил несчастного калеку, не бросал камнями. Напротив. Бывало – прибежит, и давай рассказывать какие-то свои ребячьи приключения. Стишки, ещё детские, садюшки-нескладушки, бывало, читал. Ну, вроде, как это, что Саше и сейчас почему-то помнится:
А мне мама выколола глазки,
Чтобы я конфетки не нашёл.
И пускай теперь я не читаю сказки,
Зато нюхаю и слышу хорошо.
Саша спросил тогда: зачем так-то? А пацан махнул рукой, бросил бесшабашно, но серьёзное такое:
– Та! Просто. Всегда-всегда есть что-то хорошее. Даже в плохом…
А то, бывало, присядет напротив Саши на корточки, – коленки выше плеч, – а с остренького личика – глаза, до того огромные! И боль, и тревога из их черноты так и льются в твою душу…
– Саша, – спрашивал очень серьёзно и грустно, – а ты… ты никогда в жизни не бегал?!
Нет, не бегал он… Ползал… Пока не заставил сам себя, с помощью вот этих маленьких костыликов, передвигать свои безобразные лапки, принуждая их шагать, не волочиться следом ненужным грузом.
И подростком патлатым, длинным, неуклюжим, приходил к нему Андрей – незаменимый автор песенок одной из городских музыкальных групп, что наплодилось тогда, как котят бездомных. Приходил с гитарой, а порой и с бутылкой дешёвого вина. Смотрел своими пронзительно-болящими, бездонной черноты, глазами. Расспрашивал о жизни, дурацки-нескладной, о себе рассказывал. Или вдруг, залихватски подыгрывая, запевал что-то вроде «Хорошо в краю родном…»
Взрослым, Андрей уже не пел и стихов своих не читал больше. Но однажды пропел-подарил одну песенку. И ту Саша берёг в своей памяти, как самый ценный подарок. Потому как, слишком она была для него…
Так вот, приходил, не гнушался Андрюха, и став уже вовсе солидным, хоть всё таким же худющим, мужиком. Спрашивал «за жизнь», деньгами подсоблял. «С гонорара» – говорил. Вот и после того случая, с пожарными, как узнал-прослышал? Подошёл прямо здесь, на этом месте, глянул-обжёг глазищами. Чтобы не возвышаться двухметровым почти ростом над калекой, присел, как в детстве, на корточки – и даже коленки острые так же над плечами выставились.
Саша тогда ему и сказал: сами, мол, деревья горят. Жить им, что ли, надоело? И про звон сказал. И ещё добавил, сам не знает, почему:
– А если им сказать: не надо, мол, живите? Как думаешь, – перестанут?
Андрей долго тогда смотрел в сморщенное, ветрами и солнцем попеченное, Сашино лицо, в блёкло-серые старческие глаза.
– Попробуем… – только и сказал.
И вот… «В самом эпицентре…» Саша потёр заскорузлой ладонью грудь, где бесновалось, частило сердце, и приготовился слушать.
I
– Уже?.. Пора? – слова-мысли чуть заметно встревожили пространство лёгким волнением.
Альхос, восприняв их, повернулся вместе с креслом к сидящей рядом, у пульта, Онии. Его глаза непроницаемого цвета Космоса излучали любовь и бесконечную нежность.
– К Переходу всё готово, – ответил он, указав на два ложа овальной формы в нише у стены помещения. – Но у нас есть ещё время. Ты встревожена, Ония. В таком состоянии нельзя идти в Переход. Ты же знаешь… – Альхос с мягкой озабоченностью смотрел ан подругу.
Ония обернулась к стене, окидывая взглядом подготовленную аппаратуру. Над ложами, закреплённые силовым полем, зависали прозрачные крышки, повторяющие их форму. Все механизмы, обеспечивающие надёжность Перехода, были укрыты в основаниях лож и проводниками энергии соединены с пультом управления, на котором только что Альхос закончил подготовительные операции. Оставалось только занять места… Ония встретилась взглядом с Альхосом.
– Ты же знаешь, – повторил он, – тревога, неуверенность ослабляют твою личность.
– Да. И всё же… Это сомнение… А правы ли мы, решив вмешаться? Ведь это так тонко! Малейшая ошибка, оплошность, и – всё может обернуться непоправимым…
– Нет, Ония! Ты не должна сомневаться: сами себя мы контролируем, тройное дублирование контроля здесь, на Станции… Если же Личность окажется более сильной, она останется Личностью жителя Планеты. И никакого вреда не принесёт.
– … Если Личность окажется сильной… – эхом отозвалась Ония. – Я и этого страшусь, Альхос! Если Личность окажется сильной, что мы сможем поделать?! И сумеем ли тогда вернуться? Не воздействует ли она на одного из нас или даже на обоих, на сущность нашу так, что мы больше никогда не сможем вырваться с этой Планеты, никогда не встретимся, не воссоединимся в Священном Слиянии Творения Прекрасного?!
– Ония! – Альхос с мягким укором загляну в чистую бирюзу глаз подруги.
Но она остановила его плавным жестом четырёхпалой руки, гибкой, как и всё тело, облегаемое плотным слоем защитной оболочки, которая непосвящённому показалась бы серебристо-серой кожей, оставляющей открытым только лицо, почти правильным треугольником, обращённым вершиной вниз, обрамляя его. Большую часть лица занимали огромные, без зрачков, глаза, немного скошенные к слабому намёку на нос, ниже которого, почти у самой вершины треугольника, обозначавшей подбородок, виднелась узкая безгубая полоска ротового отверстия, остававшаяся во время беседы в бездействии: творцам нет необходимости использовать звук для передачи мыслей. А внешность их, которую им придавала защитная оболочка, просто приблизительно копировала внешность жителей Планеты, что проплывала сейчас, такая нежно-печальная, на экране внешнего обзора.
Ония смотрела на планету. Потом снова повернулась к Альхосу.
– Всё-таки, почему они начали гореть? Почему деревья? По всей Планете столько потенциальных очагов возгорания: гниющие болота, огромные нефтяные пятна в морях и океанах, выходы газа на местах заброшенных и действующих месторождений… Конечно, и в этих местах случаются пожары, и от брошенного костра сгорают целые лесные массивы. Но это – совсем иное… Деревья… отдельные деревья… и всё больше, всё чаще… почему?
– Но ведь это мы и должны выяснить, Ония! Месторождения, водные пространства – дело других Творцов. Они работаю над этим. Нам же с тобой дана зелёная зона. Как сами жители её называют: лёгкие Планеты, её душа…
– … Её душа… – снова повторила Ония вслед за другом. – … Её душа… Альхос! – раздавшийся звук голоса заставил того вздрогнуть. – Альхос! – уже мысленно продолжала Ония. – Я вдруг подумала: не в этом ли вся суть, что зелёный покров Планеты – душа её. И каждым отдельным деревом, каким-то способом она связана с душами людей. Потому и гибнут люди, когда сгорают ИХ деревья. Но… почему же они горят?!
– Не будем спешить с выводами. Всё это нам предстоит выяснить. Но, может быть, потому, почему и мы с тобой, Ония, идём сейчас в Переход. Идём вопреки страху, что можем не вернуться. На планете подобное называется самопожертвованием.
Возможно, душа Планета, отчаявшись от безумств жителей, решила воздействовать на них таким вот образом. Ведь, сгорая в самопожертвовании, душа излучает невиданной силы энергию, которая очищает, облагораживает всё и всех, к чему и кому прикоснётся.
– Но… при этом гибнут люди!
– Что сделать! Видимо, во всём Космосе нельзя при спасении большего обойтись без жертв. Гибнут те, кто наиболее прочно связан с душой Планеты, с Природой. Их освободившаяся энергия, сливаясь с энергией горящих деревьев, усиливает её очищающее воздействие на оставшихся.
– Если так, то зачем, почему мы должны вмешиваться и гасить это очищающее пламя?!
– Потому, Ония, что душа лишена разума. И в порыве самопожертвования может сгореть до основания. А это значит – погибнет всё население, весь живой мир: Планета останется без кислорода. Мы же призваны спасти эту, такую ещё юную, цивилизацию. На то мы и Творцы Прекрасного. Пусть даже мы с тобой не сможем вернуться – за нами пойдут другие, которые сумеют всё сделать. Или мы вернёмся преображённые настолько, что товарищам придётся законсервировать наши сущности. Но мы не канем в Вечность: мы оставим здесь своего преемника. Всем парам, идущим в Переход, разрешено это здесь, на Станции.
Ония задумчиво вглядывалась в проплывающую на обзорном экране голубую Планету. В разрывах облачности, смешанной с дымом пожаров, копотью из труб промышленных предприятий, мелькали очертания материков, проблески яркой синевы морей и океанов. Она знала, что водная поверхность изуродована огромными нефтяными пятнами, разным мусором, косяками мёртвой рыбы, безвольно носящимися по волнам. То же было и на суше: грязь, пожары, обезображивали поверхность почти всей Планеты.
Но отсюда, из Космоса, она выглядела невыразимо прекрасной. Беззащитной в своей нежной голубизне, ореолом окутывающей её всю. Беспомощной, испуганной, в отчаянии решившейся на крайний шаг самопожертвования. И страшась этого шага, и крича своим видом о помощи, и… пугаясь этой помощи. Зов её услышан. Творцы на орбите.
Тёплая нежность сквозила из глаз Онии. Беззвучно летели в пространство слова:
Не пугайся просторов Вселенной,
Одинокая звёздочка-боль!
Я пришла. Привыкай постепенно:
Я отныне – навеки с тобой.
Я – любовь, я – надежда и вера.
Я тебе – милосердной сестрой.
Я пришла. Я стучусь в твои двери.
Я стучусь в твоё сердце: открой!
– Я готова! – Ония повернулась к Альхосу. Твёрдая вера в необходимость ответственного шага лилась из её огромных бирюзовых глаз.
– Вот и хорошо. Я чувствую – спокойствие вернулось к тебе. Теперь ничто не стоит между нами перед нашим последним Слиянием.
– Последним?.. – взгляд Онии слегка затуманился.
– Последним перед Переходом, – поправился Альхос. – Мы соединимся в Священном Слиянии Творения Прекрасного, оставим своего преемника и уйдём в Переход на высшей точке очищения сущности.
Переместившись в центр помещения, Альхос мягко провёл ладонями вдоль тела, убирая, гася защитную оболочку. Без неё сущность его, лучась голубым сиянием, постепенно теряя очертания конечностей, обратилась плотным плазмообразным облаком яйцевидной формы.
Ония с нежностью наблюдала за приготовлением своего друга. Она немного задержалась, приблизилась к панели, где спокойно перемигивались огоньки, сигнализирующие о готовности аппаратуры принять две светящиеся пульсирующие жизни. Принять, погасив их сияние, перенеся сознание в чёрное неизвестно и заботливо, чутко охранять часы, годы, тысячелетия, дожидаясь, когда вновь они вспыхнут тёплым свечением возвратившегося сознания. Или так и не дождаться этого мига…
Ония повернулась к Альхосу. Его сущность, уже окончательно сформировавшись в светящийся голубым кокон, излучала ожидание и любовь. Она так же мягко провела ладонями по своей оболочке, освобождаясь от серой шелковистости «кожи». Ещё не потеряв контуров конечностей, протянула руки к любимому и, вся озарённая мягким розовым сиянием, рванулась к нему.
Их сущности, встретившись в пространстве, соединились в единый кокон, в один миг скрутившийся розово-голубым жгутом, который резко вытянулся и тут же свернулся, приняв форму плотного, раз в десять меньше исходного тела, шара. Шар несколько мгновений покачивался в пространстве у самого пола, переливаясь розово-голубыми спиралями. Затем он словно лопнул по нескольким радиусам от вершины, опала верхняя оболочка голубоватыми лепестками, открыв под собою новую, которая так же развернулась, уже розовыми лепестками. Снова и снова раскрывались лепестки, переходя постепенно в единый тёпло-сиреневый цвет. И в пространстве помещения, колыхаясь на невидимом стебле у самого пола, вырастал, переливаясь, светясь, озаряя всё вокруг сиреневым, розовым, голубым дивный цветок лотоса, рождённый Священным Слиянием Творения Прекрасного. Наконец, из сердцевины цветка фонтаном выплеснулись три светящихся ярким сиреневым светом стрежня, оканчивающиеся небольшими округлениями. Они стали загибаться, сворачиваться книзу, разделяя цветок на три равные доли, вбирая в себя, каждый со своей стороны, лучащиеся лепестки.
И вот, наконец, на месте цветка остались три плода Священного Слияния. Три нежно-сиреневых кокона. Медленно покачиваясь, постепенно изменяя цвет на голубой и розовый, два из них подплыли к приготовленным ложам, замерли там. Сверху опустились прозрачные крышки, накрепко, до цельности соединившись с основаниями.
Заработала аппаратура, забегали огоньки на панели пульта. В помещение вошли трое Творцов, все в защитной серой оболочке. В деловой молчаливости, они произвели все необходимые действия, чтобы Переход состоялся.
Третий, оставшийся сиреневым, кокон бережно уложили в такое же ложе в ином помещении, где он получит и питание, и жизненную информацию, со временем превратившись в полноценную творческую сущность, несущую в себе частичку своих создателей. Только много погодя он определится в половом отношении, и тогда возьмёт себе имя.
Успокоилось мелькание огоньков, погасло сияние под колпаками лож. Покинули Творцы помещение, в котором теперь на долгое, долгое время поселилось Ожидание.
II
Девушка разметалась во сне, отбросив на пол такое лишнее в душной июльской ночи покрывало. Полная луна, заглянув в окно, высветила на смятой простыне узкой постели темневшее матовым загаром крупное тело с уже оформившимися округлыми контурами. Спящая лежала на спине, прислонив к стене согнутую в колене ногу, обе руки забросив за голову под рассыпавшиеся чёрными протуберанцами пряди тяжёлых волос. Неправильные, чуть грубоватые черты лица её сейчас были полны тревожного напряжения. Тёмные полоски бровей стремились сойтись на переносице, прочерчивая две глубокие складки. Большие глаза в кайме длинных, тенью лежащих ресниц были плотно зажмурены, как от яркого света. Крупный рот то крепко сжимался, то приоткрывался в учащённом дыхании или глубоком, со стоном, вздохе.
… Она видела себя маленькой в посадках, где юный рукотворный лес ещё не мог дать настоящей сумрачной тени. Деревца росли ровными рядами, как когда-то их посеяли. Трава в колеях между рядами деревьев порой достигала её плеча. В лесу было жутковато. Потому что она очень боялась паутины, повсюду растянутой между ветвями.
Деревьям было тесно, жарко, они стояли в мареве знойных испарений. Она жалела их, гладила пальчиками шероховатые стволы, запылённые тусклые листья. Шла и вдыхала запах леса. Запах ЕЁ леса был неповторим: перегретые на солнце, даже на ощупь горячие листья, закипающая смола в трещинках коры юных сосенок, цветущая трава, задевающая метёлками и колосками щёки и сухая растрескавшаяся земля под босыми маленькими ножками…
…Она убегала в степь. Маленькая, затерянная в её просторах, не боялась одиночества. Любила дышать запахом диких степных трав. Изредка собирала букет полевых цветов, приносила его к вечеру домой полуувядшим. Это заставляло её жалеть цветы. И чаще она просто склонялась к невзрачному, но такому таинственно-прекрасному цветку белокурой от палящих лучей, вечно лохматой головой, вдыхала горьковатый аромат неизвестного растения, гладила запылённые лепестки. И шла дальше, дальше в степь, зачастую сжимая в кулачке два грецких ореха. От орехов ладони были неотмываемо коричневыми. Но упрямо, как только появлялись на дереве, растущем посреди старого тесного двора, плоды, она сбивала палкой или камнем два и, зажав их в кулачке, уносила в степь. А вечером с надеждой оставляла в вырытой под деревом ямке, ещё веря, что из них, незрелых, может вырасти новое дерево только потому, что она показала им степь, простор знойного блёклого неба и колючую стерню сжатых хлебов. Верила, что дарила им жажду жизни, проведя через сердце, излучая её для них ладошками.
… Всё, что так любила и в детстве, таком далёком уже, и сейчас, выйдя на рубеж взросления, промелькнуло перед нею в этом странном тревожном сне.
Она ещё видела себя посреди степи, следящей взглядом за кружением над головой незнакомой крупной птицы, щуря огромные синие с прозеленью глаза от слепящих лучей. И вдруг заметила, что лучи исходят вовсе не от солнца, а от светящегося голубым, розовым, летящего прямо на неё, шара. Замерла в беспомощности ужаса.
Но шар не упал; мягко опустился, обволакивая нежным розовым сиянием всю её. Пришло ощущение доброты, любви, спокойствия. Доверчиво отдалась она ласкающим лучам, принимая их в себя, впивая глазами, впитывая кожей. И постепенно шар угас, растворился в ней. Только оставшееся голубое сияние поднялось лёгким облачком и уплыло, слилось с синевой неба. На миг сердце сжал страх неведомого, тоска по чему-то утраченному. Но нежное, ласковое шевельнулось в груди, и она улыбнулась.
… Так, с улыбкой, и проснулась. Встала с жаркой постели, потянулась всем телом в льющихся через окно лучах восходящего солнца. Шагнула к двери, где на гвоздике висел лёгкий заношенный халатик, и замерла, отразившись вся в высоком зеркале трельяжа. Словно позабыв о своей обнажённости, теперь с удивлением разглядывала себя в зеркале.
Вдруг дикий ужас мелькнул в широко распахнутых глазах. Сжав виски ладонями, девушка резко присела из-за внезапной слабости в ногах. Медленно подняла глаза к зеркалу. «Кто это?!.. Что это?..» – всё было таким чужим: тяжёлые мощные бёдра ног с широкими лодыжками, округлый, чуть выпирающий вперёд, живот, крупные, не по возрасту развитые, груди, полноватые руки, резкие черты лица в окаймлении тяжёлых прядей тёмных до черноты волос. Лишь глаза, непропорциональные, широко распахнутые, странного сине-зелёного цвета – они одни были ей знакомы. «Что это? – в смятении подумала она. – Я с ума схожу, что ли? Я же каждый день вижу себя в этом зеркале! Почему же я – не я?»
Поднявшись с корточек, подошла к зеркалу вплотную, внимательно вглядываясь в каждое движение незнакомого тела, в глаза отражения. «Там, в глазах, – это я… Но ведь тогда и всё остальное – тоже я. И вот эта, что стоит перед зеркалом – тоже я…И та, которая сейчас мыслит об этом – тоже я…» Вновь сжала виски: «Боже! Так ведь действительно можно свихнуться! Сколько же меня?! И – кто я? Кто я?! Как моё имя??!» Девушка растерянно вглядывалась в незнакомые черты, всё яснее осознавая, что не только не узнаёт отражение, но не знает даже собственного имени! Страх накатил оглушающей волной. Лихорадочно она заставляла себя вспомнить имя. Но в голове крутились лишь обрывки нынешнего сна.
– Ольга! – вдруг раздался резкий голос матери, входящей в комнату. – Ты чего разголилась?! Давай, быстренько беги за молоком, бо баба Дарья уйдёт коров пасти. Я – на работу. Да смотри ж, – донеслось уже из-за двери, – хоть в хате прибери. А то опять завеешься на целый день! Деньги вот, на столе, сдачу не трать – на хлеб надо…
Услышав скрип закрывающейся входной двери, Ольга облегчённо вздохнула и села на кровать. Ну, конечно! Что за ерунда?! Всю ночь снилась себе маленькой, вот со сна и показалась чужой. Вот дура-то!
**********
– Олька, ты чего?!
Глухо звякнули осколки фарфоровой статуэтки: от неожиданности, Ольга выронила фигурку, которую перед тем странно долго разглядывала.
– Последний! Это был последний слоник! – оглянулась на вошедшую девушку, какое-то время вглядывалась в неё, явно не узнавая. Та повторила:
– Ты чего, Олька? Странная какая-то…
– Ой, Светка! – Ольга потёрла лоб, словно снимая невидимую завесу с лица. – В самом деле – странная какая-то… совсем не слышала, как ты пришла… слон этот… будто первый раз видела… и ты… не узнала сразу… Да я себя сегодня в зеркале не узнала! Представляешь: как будто я – это не я…
Светлана, присев на корточки, собирала в ладонь осколки. Глянула снизу:
– Вы что сегодня, сговорились? Иду к тебе, встречаю пацана – он до переезда у нас в классе был, в той ещё школе. Ну, всегда здоровались… А тут идёт и глупо лыбится. Я: «Привет!», а он вот так, как ты, перепугался, стал и смотрит. А потом тоже: «Будто я – не я». Фигня какая-то! Влетит от матери? – протянула осколки Ольге. – Последний был…
– А! – Ольга махнула рукой. – Давно пора. Бой мещанству! Переедем – никаких слоников!
– А я тебя ждала, ждала, чтобы вместе идти… А тебя всё нет. Я и пошла к тебе.
– Да мать с утра наказала убрать. И то: вечно, уйду, а подмести лень. А вообще, что-то непонятное: полчаса искала веник и не могла вспомнить, что же ищу. И каждую вещь, как дура, разглядываю по три часа. Будто никогда не видела! Ей Богу, Светка, уже думала - свихнулась! А куда идти?
– Как – куда?! Мы же договорились! Серёжка ж сегодня в увольнении. И Кольку обещал привести.
– Кольку? А кто это? Ой, опять! – Ольга вспыхнула от внезапного смущения. – Правда? Придёт? Слушай, давай быстренько закончим. А то я до вечера провожусь. А вместе мы мигом.
Девушки быстро закончили уборку маленького, в одну комнату с кухней и коридорчиком-сенями старого домика, пристроенного к множеству таких же, расположенных по периметру тесного общего двора.
Переодевшись, Ольга с некоторой опаской подошла к зеркалу причесаться: вдруг опять оттуда глянет незнакомка. Но в отражении не было ничего необычного. То же самое, что и утром, но знакомое, привычное.
– Ты бы подкрасилась, – заметила Светлана.
– Зачем? Ты же знаешь: от туши у меня глаза становятся ненормально огромными. Это жутко!
– Как хочешь… – и, дожидаясь, пока Ольга закрывала дверь и прятала ключ под коврик, спросила. – Ты куда пойдёшь теперь, после школы? Поступать будешь?
– С моей дурацкой памятью… – отмахнулась Ольга. – Сама видишь, что творится… Да и работать надо. Матери куда одной уже. Мне же не детские платьица теперь – размер больше, чем у неё. Просто ужас, какая толстая! Слушай, как думаешь, я ему вправду нравлюсь? Он такой тоненький, как… как тополёк! А я дылда неуклюжая!..
– Ну что ты наговариваешь! – стройная, словно точёная, Светлана обняла Ольгу за пояс – Крупная, конечно, но талия, вон какая. И вообще, главное у тебя не в этом. И он же видит… Ну, пошли!
– Видит ли? – Ольга с сомнением покачала головой, выходя следом за подругой со двора, тенистого от обширного ореха, на солнечную улицу. – Мне показалось – он почти безразлично слушает, о чём я говорю.
– А о чём ты говоришь? Всё про свои деревья, как они шепчутся, про облака да росинки-травинки-паутинки? Ох, Олька, ну, когда ты уже спустишься со своих облаков на землю нашу грешную? – Светлана дурашливо притопнула на пыльном плавящемся асфальте острым каблучком. – Ой, чуть туфлю не потеряла!.. Ребятам что надо? Они в городе хотят остаться, не возвращаться в деревню после армии. Мы с Серёжкой уже решили: распишемся, и будем жить у нас. А чего, деревенские – они хозяевитые, с ними не пропадёшь. А тебе Колька ничего не говорил?
– Ой, что ты! Так сразу? Мы же только месяц знакомы! – вдруг Ольга остановилась. – Знаешь, Светка, что-то тревожное… Так часто передают про лесные пожары… Слушай, а тот мальчишка, что ты говорила, он не рассказывал, почему – «он – как не он»?
– О чём ты? – Светлана с недоумением уставилась на подругу. – Мы же о ребятах говорили, и вдруг – пожары, пацан… Сказал – сон какой-то странный… Какая разница? Тебе до него дело? Пошли! Глянь, вон ребята на остановке. И трамвай идёт. Бежим!
– Ещё чего! Следующим поедем. Идём чинно, смирно. Подождут. Дольше ждали… Та!.. Бежим!
III
Выйдя с рынка, Ольга остановилась у крайнего киоска, вспомнив, что нужно ещё купить сигареты мужу. Поставила тяжёлые сумки на запорошённый ночной ещё крупой асфальт, подтянула потуже узел тёплой косынки и, вынув из внутреннего кармана далеко не нового пальто такой же старенький кошелёк со сломанной дужкой, начала пересчитывать оставшуюся мелочь.
Рядом с киоском, как обычно, на валуне, покрытом кусками картона, сидел нищий калека. Потирал покрасневшими от холода ладонями ноги, уродливость которых скрывали донельзя стёртые, перекошенные женские войлочные сапоги. Почти безразлично оглядывая прохожих, Ольге он улыбнулся, как старой знакомой, обнажив бледные дёсны, где недоставало многих зубов. Саша, – так звали нищего, – никогда не просил заискивающе, не крестился притворно-набожно, за что Ольга его немного уважала. И всегда, бывая здесь, не кидала – клала, склонившись, в кепку у скрюченных ног калеки, сколько мог позволить её небогатый бюджет.
Сейчас от сложных подсчётов наличности её отвлёк резкий какой-то звяк упавшего в кепку металла. Скосив глаза, она увидела среди мелочи пару серебристых кругляшков: такие мальчишки часто используют вместо монет для телефона – услышала грубый насмешливый басок, обращённый к Саше:
– А что ж ты не попросишь, как все? Хочешь? – юный мордоворот в джинсовой утеплённой куртке вертел перед лицом нищего крупную купюру. – Ну, давай: перекрестись – «По-о-дай-те-е Бога ра-ади!»
Ольга растерянно перевела взгляд на Сашу – как защитить?! Но тот, лишь слегка скривив губы в саркастической усмешке, пропел вдруг скрипучим, осипшим на морозе, голосом:
Пожалейте нищего,
Нищего-калечного!
Все вы в жизни ищете
Доброго и вечного.
А добро скрываете,
Словно червоточину.
И пятак бросаете
Звонко, как пощёчину!
Ольга вздрогнула от понимания его безумной смелости. И словно хоть этим пытаясь защитить от засверкавшего злым взглядом юнца, склонилась, бережно ссыпала в кепку так и не пересчитанную мелочь, вынула кругляшки и, выпрямившись, строго глянула в наглые глаза парня, бросив их ему под ноги. Тот, вдруг стушевавшись, молча отступил, растворился в толпе.
Ни словом не обмолвившись с нищим, Ольга подняла сумки и тяжело пошла к остановке.
– Женщина! – вдруг услышала она оклик. – Женщина! Вот, возьмите… – Ольга изумлённо оглянулась на подбегавшую к ней киоскёршу с пачкой сигарет.
– Но... – пробормотала. – Я не могу заплатить… я не…
– Ничего! Вы ведь всегда здесь бываете. Я знаю: Вы вернёте.
Девушка сунула пачку в одну из сумок Ольги и быстро побежала к киоску. Постояв немного в задумчивости, та улыбнулась и продолжила свой путь.
На остановке Ольга оглядела непролазную толпу ожидающих автобуса, с тревогой прислушиваясь к таинственному в себе. Малыш… Малыш устал… Она слишком тяжело нагрузилась, скупившись на рынке. А ещё предстоит поездка в автобусе, в этой толкотне. И всё же она улыбнулась: малыш впервые шевельнулся, словно постучался изнутри: «Я здесь! Я – живу!»
Ольга прислонилась спиной к столбику с расписанием и тихонько погладила живот. «Ну, что ты, – мысленно проговорила, – что ты, маленький? Потерпи. Мы с тобой люди сильные. Мы и сумки дотащим, и автобус одолеем. Ты же видишь: хорошие люди ещё не перевелись… ещё есть на свете… Жаль только, что в последнее время много их почему-то умирает, погибает… И пожары эти… Деревья горят… Почему они горят?.. Но ты, малыш, не бойся: мы всё одолеем. Даже папку своего непутёвого».
В подошедший автобус Ольга попасть не смогла. Следующего ждать было бессмысленно: начинался перерыв. Вздохнув, подняла сумки и пошла домой пешком.
Она уже очень устала. Шла медленно, не замечая прохожих, вся погружённая в свои мысли.
**********
Мать умерла, когда младшему, Димке, было полгода. Всего два месяца и побыла на пенсии, ради которой всю жизнь гробилась на тяжёлой работе. Надорвалась под конец. Ольге и жаль было, и какое-то облегчение почувствовала, за что корила себя нещадно.
Но в последние годы жизнь была сплошным адом. Мать постепенно спивалась. Дома постоянно бывали такие же её подруги. Николай всё чаще присоединялся к ним. Если Ольга возмущалась, начиналось что-то несусветное. Мать ругалась, упрекала, что из-за неё всю жизнь изуродовала:
– Я на тебя всю дорогу ишачила! Оле то, Оле сё… А ты, тварь неблагодарная, хоть что-то для матери сделала?!
Николай полностью поддерживал тёщу, так же упрекая жену в лени, безалаберности, чаще – за внешний вид:
– Ты, корова! – пьяно бросал он. – Разъелась! А до сына, до матери тебе дела нет! Ещё второго хочешь! – (Ольга была тогда с Димкой) – Какая ты мать: ни убрать, ни постирать… Я это должен делать?!
– Но почему же не должен? – удивлялась Ольга. – Я же работаю, как и ты. А ты же сам видишь, что здесь творится: за этими подружками, за вашими пьянками не наубираешься, не наготовишься.
– А ты и не делаешь ничего. Только полёживаешь с книжками-газетками, да шляешься где-то.
– Но кто же тогда делает-то?! – Ольга искренне обижалась. – Ведь не спишь ты на грязном, голодным не ходишь. И Олежка всегда в чистом. Зачем ты так, Коля?!
– А ты на него не ори! – вмешивалась мать. – Скажи спасибо, что взял тебя, дуру набитую. Другой бы бросил с дитём и поминай, как звали. Как твой папаша когда-то. Думать надо было, когда по посадкам гуляла. А теперь твоё дело помалкивать в тряпочку и делать, что муж скажет.
… Когда становилось невмоготу, Ольга уходила. В посадки или в степь.
Подросший лесок, как обычно, дарил ей запахи то весенней свежести молодых листочков, то жарких, прогретых на солнце, горячих даже на ощупь. Запах закипающей смолы в трещинках коры сосенок или терпкий аромат хвои под лёгким снежным покровом.
В степи обнимали ноги высокие травы, лилось в широко распахнутые глаза небо. То блёклое от зноя, то пронзительной синевы. То чистое, то затянутое клубящимися облаками.
В непогоду просто бродила по городу.
В городе тоже жили деревья. Их Ольге было особенно жаль. Зажатые среди асфальта и бетона, они страдали в городе, наверное, так же, как она в своей сумасшедшей квартире: тесно, громко, угарно. И всё же они росли. Боролись за жизнь, утверждали себя наперекор всем невзгодам.
Она училась у них этой жизненной стойкости. И возвращалась с прогулок спокойная, готовая перенести новые и новые трудности, нападки мужа и матери.
Иногда брала с собой Олежку. Сын рос тихим, замкнутым. И только на этих прогулках могли они вдоволь наговориться. И – посмеяться. Они даже называли эти прогулки: «Пойдём, посмеёмся!» Олегу Ольга могла рассказывать обо всём. И о природе, и о технике, и о проблемах житейский. Если что-то было непонятно мальчишке, он серьёзно замечал:
– Ладно, я потом это пойму.
Однажды он сказал:
– Я тебя понимаю, мама. Ты какая-то странная. Как будто тебя две. Дома одна, а на улице – другая. Наверное, это из-за папки. Давай его прогоним. И тогда ты будешь одна.
– Что ты, Олежка! – горько усмехнулась Ольга. – Я папку люблю. И как можно - прогнать?! Он же родной-родной. Просто другой. Непонятно ему, как можно вот так разговаривать. Но ведь и бабушке непонятно. Что же, и бабушку прогнать?! Нет, Олежка. Это только я другая. И ты тоже немножко: ведь ты мой сын. А остальные все, в основном, одинаковые. Значит, нам нужно приноравливаться к ним. Это мы в их мире живём, а не они в нашем.
А папка… ты не помнишь… Он ведь не всегда таким был… Просто… не сумел, не выдержал… Быть таким, как мы, Олежка, очень нелегко, если есть хоть капелька сомнения в своей правоте. Вообще, странно это и очень сложно. Не только для тебя. – Ольга надолго замолчала, глядя в пространство, машинально ероша мягкие волосы сына. Потом вздохнула и повторила. – Просто он не выдержал… постоянно чувствовать ответственность за весь мир целиком – не за одного себя – за каждое деревце, за каждую травинку… за всё…
Иногда она пугалась, что увлекает сына в свой полуреальный мир прекрасного. Замечала вдруг, насколько он замкнут, необщителен. Тогда становилась строгой мамой, ругала за разбитую обувь, плохие отметки в школе. Но, опять же неестественно, требовала: «Найди себе друзей, общайся со сверстниками!»
Тысячи матерей стремятся отгородить своих детей «от дурного влияния улицы». Она гнала сына во двор. А он приходил вскоре, угрюмый:
– Они ничего не понимают! Только про видики рассказывают. А я начну то же самое из книжки – «ха-ха», да обзываются.
Иногда приходил с синяками.
– Ты хоть сдачи даёшь? – спрашивала Ольга.
– Это же больно! Я не могу ударить: это больно! – в слезах кричал сын.
И Ольга обречённо всплёскивала руками:
– А тебе? Тебе ведь тоже больно.
– Но они не чувствуют этого. Они же – другие…
**********
Другие… Не помнит она, когда разделила эти два мира: свой и тот, в котором приходилось жить, в котором жили все остальные люди. Подозревала, что такие, как она, тоже есть. Но не встречала. И виделись ей эти люди звёздами в ночном хмуром небе. Чернота и тучи – весь мир. А звёзд, вроде и много, но как же они далеки друг от друга! светятся, каждая сама по себе. А тучи скроют – не пробьётся их свет, никого не озарит: звёзды – яркие солнца лишь в своём мире. Чтобы звёзды соединились, им нужно взорваться, сгореть, исчезнуть…
Себя ощущала такой вот звёздочкой: слабой и одинокой, закрытой сплошной пеленой грозовых облаков.
Когда это началось? Может, ещё в детстве, когда от подружек, от шумной компании, убегала в степь глядеть на травы и небо, в посадки – разговаривать с деревьями?
Может, с того странного сна, что так часто потом повторялся, привнося в душу смятение и возвышенное успокоение?
Или просто постепенно, в течение всей жизни, накопилось это понимание обособленности…
А скорей всего, с того давнего разговора с мужем.
**********
– Коля-колокольчик! Что ты загрустил?
Ольга ласково отвела со лба Николая мягкую светлую прядь. Тот, покусывая травинку, задумчиво следил за скользящей в синем воздухе паутинкой. Ольга, проследив его взгляд, вскочила со скамьи в сквере, где они сидели, догнала паутинку, унизанную, как бисером, мельчайшими капельками росы. Капельки в солнечных лучах искрились, играли всеми цветами радуги. Смеясь, Ольга подхватила паутинку-ожерелье за края и торжественно понесла к любимому:
– Не печалься, родной, что лето тёплое минуло! Я тебе эту драгоценность дарю навсегда! – и диадемой надела на волосы Николая невесомую нить.
Он смотрел на неё как-то странно. Изумление и одновременно досада сквозили в его светлых глазах.
– Что, Коля?! – уловила Ольга его состояние. – Я что-то не так делаю?
– Не знаю – пожал тот плечами. – Может и так. Может сейчас это – нормально… Но ты всегда такая… Всегда! А семья, а быт?! Об этом же тоже нужно помнить. Почему я, работая, умею не видеть, не отвлекаться на всё это… – он широким взмахом руки указал на печальную красоту осеннего сквера.
Бледный тополиный лист, плавно опускавшийся в чистом прозрачном воздухе, взметнулся в вихре, рождённом этим взмахом, и доверчиво лёг в раскрытую ладонь Николая. Тот несколько мгновений смотрел на него. Ольга тоже не сводила заворожённых глаз с неожиданного дара осени.
– Коленька! – прошептала. – Правда – чудо какое: осень нам подарила его. Прямо ладошка в ладошку…
Николай стряхнул оцепенение вместе с листом из ладони.
– Видишь, – досадливо отмахнулся, – я тебе – об одном, а ты… Кроме этого и видеть ничего не хочешь. Сейчас придём домой – мать, небось, пьяная, жрать нечего, не подметено... А у тебя в голове – этот паршивый листок да паутинки!
– Что ты, Коля! Я же и приготовлю, и уберу, – чуть обиделась Ольга, поднимая с земли листок. – А его я спрячу. Ты не бойся, он не будет мешать…
Дома Ольга спрятала лист в альбом с фотографиями. Предчувствия Николая оказались верны, и она немедленно принялась за приготовление ужина. Но действительно, всё не могла ни паутинку-диадему на светловолосой голове мужа, ни листок, доверчиво опустившийся в его ладонь. И, конечно, что-то у неё пригорело, за солью проследила, но положила много перца, и потом сама же долго не могла отдышаться.
– О чём ты думала, когда варила?! – упрекала мать.
– О паутинках-листиках! – раздражённо бросил муж. – У неё только это в голове… Под такое блюдо выпить надо. Давай, тёща, наливай!
Ольга вскинула глаза во внезапной обиде, смешанной с изумлением: до сих пор Николай не разделял пристрастия тёщи к выпивке. Мать она понимала. Та долгие годы работала на тяжёлой работе в бригаде с мужчинами. Там и привыкла пить. Но муж…
– Чего уставилась, мечтательница? – рассмеялся Николай почему-то зло, нервно. – Разве я не прав был? Сама виновата! – и вдруг взъярился. – Не смотри! Не смей… ТАК смотреть!
Внезапный удар по лицу отбросил Ольгу к стене. Вскинув обе руки ко рту, чтобы не закричать, она продолжала смотреть на мужа невероятно распахнутыми глазами…
Потом Ольга научилась в обиде глаза опускать. Потому что однажды Николай всё же признался ей:
– Когда ты ТАК смотришь – обиженно – становишься до такой жути чужая, что… Да не смотри же ты!!!
– Почему – чужая, Коля?! – изумилась Ольга. – Я же – вот она – вся твоя. Ты обидел – на следующий день я не помню. Не притворяюсь – в самом деле не помню.
– Знаю! – Николай, ломая спички, лихорадочно раскуривал сигарету. Наконец, затянувшись и выпустив длинную струю дыма в открытую форточку (разговор происходил на кухне), заговорил опять. – Ты живёшь совершенно без памяти. Не помнишь имён, не помнишь зла…Не помнишь даже, ЧТО отвечаешь мне на обиду, КАК отвечаешь. Ты становишься тогда чужая не просто мне. Чужая – вообще всей жизни этой!
– Зато я люблю тебя без памяти! – заливисто засмеялась Ольга. – Не помня ничего плохого, я помню каждый твой нежный взгляд, каждое ласковое прикосновение… ты говорил тогда, в сквере, что умеешь отключаться, не видеть красоты этой жизни. Коля... а может, вы все, кто старается не видеть, может, вы все – чужие этой жизни, а не я?!
– Дура ты, Ольга! Это как в армии получается: вся рота – не в ногу, один командир – в ногу. Подумала бы, что городишь!
Ольга присела напротив мужа, подперев щеку ладонью, помолчала задумчиво.
– Я думала, – произнесла медленно. – Много думала, Коля…
– Ну и что же ты надумала? – с иронией усмехнулся муж, гася окурок в пепельнице.
– Что это бывает – правда: вся рота не в ногу… Просто когда-то, очень давно, люди пошли не в ногу со всей жизнью Земли. И считают себя правыми. А командир… он, на параде, не смеет оглянуться и поправить…
– Это такие как ты – командиры?! – Николай в смехе откинулся на стуле, чуть не опрокинувшись вместе с ним. – Ну, сказала! – и вдруг посерьёзнел. – Слушай, ты так в психушку попадёшь. Кончай дурить! Живи, как надо. Твои дела – работа, хозяйство, дитя воспитывать. Надумала рожать – думай, что делать с ним будешь.
– А ты разве об этом не должен думать? Коля, он же наш общий… – Ольга незаметно погладила чуть округлившийся живот.
– Мне, при такой идиотке жене, надо думать, как прокормить вас, а не о воспитании. Мне, видишь ли, не до листиков-цветочков.
– А тебе не жалко? – Ольга опустила голову, рассеянно водя острием ножа по узорам клеёнки кухонного стола. – Не жалко тебе, что – не до них?
Какое-то время муж молча разглядывал её, потом встал, подошёл к окну и, распахнув шире форточку, закурил новую сигарету. Стоял так долго, выпуская струи дыма в ночной морозный воздух.
– Жалко – не то слово, – отозвался, наконец, не оборачиваясь. – Просто всё это – оно как праздник мгновенный должно быть. Мелькнуло – сердце дрогнуло – и дальше жить надо. Обычной жизнью. Ну, нельзя же… нельзя жить в вечном празднике! – обернулся к ней, захлопнув форточку. Будни – их ведь больше в жизни…
– Для меня это – не праздник, – тихо ответила Ольга. – Это – сама жизнь… Я по-другому не могу. Не умею и не могу. Я пробовала… А ты… ты всё реже отмечаешь эти праздники. Чаще – обычные, человеческие. А праздник единства с Природой… Коля! – вдруг с восхищённым изумлением оглянулась она к мужу, – ведь в том сквере растут клёны и акации! А тебе на ладонь опустился тополиный лист. Как это?!
– Ерунда! – передёрнул плечами Николай. – Занесло ветром… А вообще, – усмехнулся, – тополь – моё дерево. Дома у меня есть тополь. Бабка говорила – пророс в день моего рождения. Да чушь – всё это! Вон, по гороскопам, у меня совсем другое дерево, кустарник даже… Кончай базарить, спать уже пора!
– Сейчас пойдём. Только… Коля, ты ведь… раньше-раньше был такой же, как я. Почему ты перестал всё это замечать, чем жил тогда?
– Потому что два идиота в семье – это явный перебор! Меня уже бесит твоя упёртость. Ну, замечай, пожалуйста, замечай… На здоровье! Но какого… ты навязываешь это всем?! Кому это надо – вечная ответственность за травы и леса?! Дай Бог, за себя ответит…
Ольга молча собирала со стола в раковину, так и не вымытую посуду: совсем о ней забыла за разговором.
Больше таких разговоров не было. Было другое. Совсем другое…
**********
… – Коля, ты слышишь, что поют деревья? Смотри, как склоняют они к нам свои ветви! И листочки молодые… потрогай, клейкие какие!.. И пахнут изумительно!.. Я люблю тебя! И все деревья этому радуются: они понимают нас, они с нами!
– Придумала! Ну, о чём ты говоришь?! Посмотри лучше сюда: – Николай дурашливо склонил её голову, – есть один человек, который лучше деревьев понимает нас…
**********
… – Ну, что ты стала, как идиотка, посреди дороги?! Хотела в кино, так пошли! – раздражённо, муж за руку сдёрнул её с дороги на тротуар.
– Подожди, Коля! Малыш… Вот, потрогай: как бьётся! Я шла, смотрела на облака, как они бегут, как меняется их форма и окраска. Ему понравилось это, и он запрыгал... – Ольга счастливо рассмеялась, прижимая ладонь мужа к круглому своему животу.
Тот резко выдернул руку:
– Дура! – и, видно, чтобы смягчить, добавил. – Нет, ну это же глупо: посреди улицы так себя вести. Люди смотрят!
– Ну и пусть смотрят! Мы же вместе. Мы счастливы. Пусть все видят это!
**********
… Они с Олежкой прибежали из садика, попав под внезапный ливень. Хохоча, снимают промокшую одежду, обувь.
– Коля! – глаза Ольги лучатся от счастья и изумления. – Олежка, расскажи папе, что мы видели! – и, не дожидаясь, пока сын начнёт. – Ой, ты представляешь: ливень, молнии вот такие – прочертила рукой зигзаг, – и вдруг – солнце! Как всё засверкало! И – радуга полетела! Скажи, Олежка, – полетела! Знаешь, как – прямо на ливне зажглась и падает, падает…
– Ты жрать готовить думаешь? – оборвал жену Николай. – Я с работы пришёл! А она шляется. Ребёнка под дождём таскает. Заболеет – опять на мою шею сядешь…
– Я не заболею, пап! Это правда было красиво: она летела прямо на нас!
– И мы теперь совсем-совсем радужные! – ещё смеясь, подхватила Ольга. – Ты не ругайся. Я сейчас… У меня всё готово… Только Олежке сухое надену… Коля, родненький! – обвила шею мужа руками, заглянула в глаза. – Я люблю тебя! Ну, почему ты не видишь эту красоту?!
Николай сбросил руки жены, оттолкнул:
– Мокрая! Вытри волосы и не болтай ерунду.
– У тебя неприятности на работе? Расскажи, что случилось?
– А! разве ты поймёшь?! – отмахнулся. – У тебя одно в голове: лютики-цветочки.
– Ты не прав. Я всё понимаю. И мне тебя так жалко, что ты совсем не такой, не можешь радоваться радуге…
– Какая, к чёрту, радуга?!! – взорвался Николай. – В доме срач! Жрать нечего! А ты – радуга!..
– Как – нечего? – изумилась Ольга. – Я же приготовила… – подняла крышку с кастрюли и охнула: та была пуста. Растерянно опустила руки. – Опять те… Господи… Мама!
Зашла в комнату и обречённо сникла: мать, пьяная, спала. На столе стояли тарелки с недоеденным, несколько бутылок и стаканов.
Вот и снова тучи затянули сверкнувшую, было, ярко звёздочку…
**********
… – Коля, мама! – Ольга, встревоженная, остановилась в дверях. – Слышали – посадки горят! И никто не знает, почему. Что-то странное происходит. Говорят – деревья сами по себе вспыхивают… И люди стали чаще умирать… У нас завтра опять похороны – собирали деньги. Уже пятый раз с начала года. А сколько у нас людей-то… И как будто связаны они между собой – люди и деревья…
– А тебе какое дело?! Ты о семье думать должна, а не о людях да о деревьях. Там пацаны балуются, костры жгут. Придумала тоже: связаны! Год високосный, вот и мрут. Всегда так.
– Високосный был прошлый…
– Тут мать, может, помирает! А она – люди!
– Ну, мам, чего ты придумала?! Мам, а у тебя есть любимое дерево?
– Ольга! Оставь свои глупости! Убери лучше. Вон, Олег твой, опять, видно двойку принёс – притих. Совсем дитя забросила. А ещё второго собралась… Тебе в больницу, а за Олегом я смотреть должна, а Николаю жрать я должна готовить?! Хватит: тебя всю жизнь обслуживала! – и, помолчав, добавила вдруг. – Орех наш я любила. В том доме ещё. Так, Маринка сказала: срубили его этим летом, высох, говорят…
IV
Снова завернул ветер, погнал дым и копоть на город. Белая пороша на газонах начала сереть от хлопьев пепла.
Ольга остановилась у перекрёстка, поставив у ног сумки, чтобы дать отдых рукам. С воем сирен в сторону окраины пронеслись две пожарные машины, высверкивая маячиками начинающиеся сумерки.
– В посадки, – раздалось рядом. – Всё горят… И когда их уже потушат-то? Копоти сколько – бельё не вывесишь. Да и продохнуть уже нельзя от дыму-то.
Ольга повернулась к говорившей женщина:
– А почему они горят? Уж сколько лет…
– Дак ведь известное дело: пацанва ж балуется, траву жгёт – вот и горят…
Ольга с сомнением покачала головой: какая трава в начале зимы?
– А в дождь? Они же, бывает, и в дождь горят.
– Та, може, бензином? – высказала нелепое предположение женщина, ступив на дорогу и тут же отпрянув назад: с таким же воем и маячиком мимо проехала скорая помощь. – Вот и люди… задыхаются от дыму – то сердце, то астма… Мрут, как мухи… – бросила и заспешила через дорогу.
– Нет, это просто безобразие!
Ольга вздрогнула от неожиданности. Только что нагнулась поднять сумки, и вдруг увидела, как чья-то большая, из обшлага чёрной куртки выглядывающая рука ухватила одну из них. И тут же раздался этот неприятно-надтреснутый голос. Она машинально рванула сумку к себе. Но мужчина, оказавшийся перед ней, ловко перехватил и другую. В растерянной беспомощности Ольга выпрямилась, глянула на нахала. Тот, возвышаясь над нею, задорно-возмущённо улыбался.
– Нет, это просто безобра-азие! – повторил он, комично растянув последнее слово. – Женщина в таком положении и такой груз! Извините! – добавил мягче. – Нам, кажется, немного по пути. Позвольте Вам помочь.
– Да Вы что! – Ольга смущённо развела руками. – С чего Вы взяли?! Я сама… Мне рядом… – и совсем уж беспомощным тоном: – отдайте…
Мужчина, словно размышляя, некоторое время стоял молча против Ольги с её сумками в руках. Потом, приподняв плечи, по-птичьи склонил голову набок и озорно-мальчишески бросил:
– Не-а! и не подумаю! Пойдёмте, – добавил уже серьёзно. – Вон там, в сквере, - скамейки. Нет, правда, Вам надо хоть десять минут отдохнуть, – и крупно зашагал в сторону сквера.
Ольге невольно пришлось идти за ним. Кричать, привлекать внимание людей было неловко: ведь ей предложена помощь. И никуда он не убегает…
В сквере мужчина аккуратно поставил сумки на скамью, затем достал из внутреннего кармана куртки многократно сложенную газету, развернул её и, постелив на сидение скамейки, предложил Ольге:
– Садитесь.
Она демонстративно-смиренно уселась, сложив руки на коленях. Некоторое время они молчали. Мужчина стоял перед Ольгой, слегка покачиваясь с пятки на носок, засунув руки в карманы куртки, расположенные высоко, где-то под грудью. Она разглядывала его.
Длинная шея с острым кадыком торчала из полурасстёгнутого ворота. Длинные до плеч волосы на непокрытой голове чуть тронуты сединой по тёмно-каштановому. Длинные ноги в коротковатых джинсах. Длинный нос над тонкими, тоже словно длинными губами.
Ольга неожиданно расхохоталась: таким забавным ей показалось вдруг всё это сочетание длиннот.
Мужчина, склонив голову набок, вопросительно глянул на неё пронзительно-чёрными, чуть углубленными глазами. И, вдруг присев перед нею на корточки, отчего колени его оказались выше плеч, тоже тихо засмеялся. Словно прочитав Ольгины мысли, произнёс сквозь смех:
– … и длинное молчание…. Но давайте не будем молчать. Потому что, вопреки всему длинному, встреча наша очень-очень короткая, – он погрустнел. – А жаль, вот так: долгие-долгие поиски, внезапная находка, коротенькая встреча и … и – всё!
– О чём вы? – непонимающе спросила Ольга.
– Да так… – он потянулся к растущему у скамьи кусту, сорвал чудом сохранившийся узкий листок, помял его в пальцах, понюхал. – Что это? – спросил. – Вы знаете?
– Нет. И не хочу знать. Зачем это?
– Как это – зачем? Вы не любите растения? Не любите деревьев, кустарников, цветов?
– Я люблю деревья. Люблю кустарники. Люблю цветы. Но разве для любви обязательно знать имя? Зачем? Вы будете больше любить дерево, узнав его имя?..
Этот кустарник… весной он цветёт изумительно душистыми белыми кистями. От его аромата опьянеет можно. Особенно когда только что прошёл дождь, солнце высверкивает в капельках дождинок, словно миллионы радужек горят кругом. И – аромат… пьянящий, кружащий голову… Хочется снять туфли и кружиться в вальсе босиком по лужам среди этого радужного сверкания и… – Ольга смущённо замерла. Что это она?! Глупости какие! Неловко повернулась, притянула к себе сумки, пряча глаза. – Извините… Я дура… я знаю это… – попыталась встать, но мужчина остановил её, слегка прикоснувшись к колену под распахнувшейся полой пальто. Ольга судорожно стянула полы и застыла, придерживая их.
– Расскажите ещё, – тихо попросил мужчина.
– Что? – Ольга не поняла. – Глупости всякие! – помолчав, добавила. – Но я всё равно люблю их. В школе ботаникой увлекалась, даже в юннаты ходила. Только почему-то не запоминаю ни названий, ни как ухаживать… Но ведь можно просто любить. Без памяти,– тихонько засмеялась. – Вот такая она – любовь без памяти…
И не только растения. А всё-всё! Всё так красиво! И паутинка в туманных бисеринках, и радуга, падающая с ливнем, облака рисуют целые картины, а жизни этим картинам – миг… Ручейки – самые неповторимые из всей текучей воды: каждый миг меняют форму своего русла, каждое мгновение – новый звук в журчании их… Пустите щепочку-кораблик и – изменилась мелодия, изменился узор волны… А ещё – небо. Разное-разное! И – звёзды… Но зачем это?! Это – мой мир! И никому до него нет дела. Люди-звёздочки так далеки друга от друга… А чтобы соединиться – сгореть надо. Это страшно. И кто на это пойдёт?..
– Вы бы пошли?
– Я? Нет, вряд ли. Я довольствуюсь тем, что моего света хватает для самых близких. А им сгоревшая звезда не нужна. Да и вовремя это нужно… – Ольга замолчала, замутив, как вдруг странно-неуловимо переменился взгляд мужчины. Словно открылась заслонка на глазах. И – повлекло, закружило… Нежность, бесконечная любовь и… тоска. Показалось – полыхнуло по черноте голубое сияние – тёплое, притягивающее, влекущее… Она отшатнулась, прикрыла рукой глаза. – Вовремя… – проговорила еле слышно.
И – пропало наваждение. И опять взгляд мужчины стал внимательно-тревожным. Тихо коснулся её вновь:
– Расскажите про ваше любимое дерево.
– Дерево?.. – Ольга в растерянности замялась. – Дерево… Они все – любимые.
И сейчас, когда такие печальные. И весной, когда такие нежно-беззащитные. И летом, когда уже словно повзрослели. Но так им тесно и жарко! И запах пыльной горячей листвы… И запах смолы… А осенью, хоть и замирают, желтеют листья, но почему-то осенью деревья особенно живые. Больше, чем летом. Правда! Тогда они говорят. Про всё-про всё!
А то дерево растёт над ручьём. Зимой оно сумрачное. Ветки тонко чёрным очерчены. Весной такое нежно-изумрудное. И – золотое: всё в ореоле золотой пыльцы. Летом – задумчиво-кудрявое. А осенью… осенью живое-живое! И говорит, говорит, говорит… Про всё-про всё!
– О чём говорит?
– Про всё. – Ольга снова растерянно умолкла. – Про всё, – добавила, помолчав. – Просто нужно слышать, – и опять стушевалась под проницательным взглядом чёрных глаз.
– А Вы пишете?
– Что? – встрепенулась Ольга.
– Ну, вот, как Вы рассказываете, – пишете? Прозу или стихи. Или просто дневник?
– Какие стихи?! И проза… – Ольга горько усмехнулась. – Моя проза – вот она, – вновь притянула к себе сумки, огляделась вокруг, поправляя узел косынки и, заметив внезапно, что сумерки-то уже довольно сгустились, вдоль улицы цепочки огней побежали, охнула. – Время-то сколько! Вы извините… спасибо, Вам, конечно, но я очень спешу. Мне семью кормить надо… – почему-то виновато пробормотала она. – Только не провожайте меня... Я вон в том доме живу… Мне – рядом!
мужчина молча встал, помог ей подняться со скамьи.
– Вот видите, – тихо сказал, – такая короткая встреча. И такая… и так… не вовремя… Но спасибо Вам! – и быстро, торопливо даже как-то, ушёл.
Ольга посмотрела ему вслед. Затем сняла со скамейки повлажневшую газету, свернула её аккуратно и положила в сумку. Почему-то было очень легко. Так, что «хочется снять туфли и кружиться в вальсе босиком по лужам…» Она улыбнулась и снова посмотрела вслед скрывающейся вдали, силуэтом мелькающей в свете фонарном, длинной нескладной фигуре. «А имя? – подумала. – А! Зачем имя?! Разве от этого всё станет лучше?»
V
По брошенным у самого входа сапогам Ольга определила, что Николай уже вернулся с работы. И, как всегда в последнее время, не в лучшем состоянии. Что-то с ним происходит… Это уже не «шабашки». Что-то посерьёзнее… Молчит…
Белые, чисто вымытые кроссовки Олега аккуратно стояли под полочкой. Из его комнаты доносился лязгающий звук странной музыки: опять заперся у себя и «балдеет». Димкиных ботинок не было: видно, снова завеялся где-то с друзьями, а ведь уже стемнело. В отличие от старшего брата, Димка был не в меру общителен. А уроки, небось, ни тот, ни другой и не думали делать.
Прислонившись плечом к стене, Ольга сняла туфли, с досадой думая, что вот уже совсем зима, а сапоги из ремонта никак не заберёшь: молний у них, видите ли, нету!
Не выпуская сумки из рук, она, приподняв плечо, сдвинула с головы косынку и, не раздеваясь, прошла на кухню. Там поставила сумки на пол и, тяжело опустившись на табурет у стола, с завтрака ещё заставленного немытой посудой, начала медленно расстёгивать пальто.
В раковине чернела сковорода с остатками застывшего жира: Олег обедал «дежурной» яичницей. Димка же, вероятно, бросив ранец под кухонный стол, отхватил, как всегда, кусок хлеба.
Ольга собралась встать, чтобы снять и отнести пальто в прихожую на вешалку. Но в этот миг вновь шевельнулся, забеспокоился малыш, и она замерла, положив ладонь на живот, бездумно-ласково глядя в пространство. «Ну, что ты, маленький? – мысленно повторяла. – Мы уже дома. Всё хорошо, не бунтуй. А то вот сейчас папка даст нам чертей за долгие шатания». Она тяжело вздохнула.
Словно прочитав её мысли, в дверях кухни появился Николай. Стал, упираясь ладонями о косяки. Искоса глянув из-под чёлки с редкими проблесками седины, Ольга отметила, что набрался он сегодня основательно. Глаза его, обычно ясно-зелёные, были сейчас оловянно-мёртвые. Она не любила этот остановившийся взгляд мужа. Вся сущность её протестующее сжималась в комок где-то под сердцем, заставляя его выстукивать сбойный ритм. Но даже и в таком состоянии с неизъяснимой нежностью любовалась она мужем. Тонкой стройной фигурой, миловидными чертами лица с чётко очерченными чуть припухлыми губами. Мягкой прядью волос, светлой чёлкой падающей на глаза.
Она любила его. Любила преданно и беззаветно. И жалела его.
Ольга поднялась, снимая пальто. Хотела пройти мимо мужа в прихожую, но тот, откачнувшись, толкнул её растопыренной пятернёй в плечо, отчего она снова резко села на табурет. Глянула насторожённо, держа на коленях сложенное пальто.
– Зачем ты так, Коля? – спросила мягко. – Тебе же самому от этого плохо…
– Где ты шлялась?! – оборвал её муж. – Я с работы пришёл!.. Я жрать хочу!.. А ты… т-тварь… Отвечай, где шаталась?!
– На рынок после работы зашла, – оставаясь внешне спокойной, ответила Ольга. – Знаешь, вот даже мяса купила. Килограмм только, правда, но хорошее. И сигареты тебе принесла... – вынула из сумки лежавшую сверху пачку. – Знаешь, так получилось.
– Что получилось?! Небось, хахаля какого встретила? Я здесь голодный, курить хочу, а она… – он замахнулся, Ольга, вскинув руку, привычно перехватила его, крепко сжав запястье.
– Не надо, Коля. Я просто не смогла попасть в автобус. Пришлось идти пешком.
Николай вывернул руку, замахнулся, было, вновь, но передумал, надорвал пачку, резко выхватив из рук жены, и, прикуривая, прошёл на «своё место», в угол.
Ольга скользнула в освободившийся проём двери. Повесив пальто, вернулась на кухню и, пересиливая усталость и нервную дрожь, принялась разбирать сумки: что в холодильник, что на стол, для немедленного приготовления. Муж курил, демонстративно стряхивая пепел на пол.
– Ха! В автобус она не попала! Она-то… – презрительно окинул взглядом несколько расплывшуюся фигуру жены. – Разъелась, корова! уже в автобус влезть не в состоянии! У-у! – снова взъярился. Ольга машинально отшатнулась, но замахиваться он не стал. – Только жрёшь всё, кобыла толстозадая.
В мгновенной обиде Ольга опустила глаза, чтобы не выдать себя. Молча разделывала мясо. Поставив его в казанке на печку, принялась чистить картошку. Некоторое время на кухне царила тишина. Ольга изредка бросала насторожённый взгляд на мужа. Тот курил, не переставая, поглядывал на неё молча и как-то значительно. Она не выспрашивала, по его виду поняв, что сегодня, наконец, он всё выскажет, что наболело.
Хлопнула входная дверь, и тут же послышался грохот падения: Димка, влетев с улицы, споткнулся о сапоги отца и сходу растянулся во весь рост. Принялся, было, реветь, но, увидев родителя через проём двери, передумал.
– Ма! Есть хочу! – послышалось из прихожей.
– Подождёшь, – бросила Ольга. – Убери там обувь, умойся и делай уроки пока.
Николай на появление сына никак не отреагировал. Заметив на подоконнике сложенную газету, развернул её и пытался читать.
Димка молча вытащил ранец из-под стола, хмуро вышел из кухни.
– Ма! – послышалось опять. – А Олег не впускает! Где мне уроки делать?
– Ох! – вздохнула Ольга, вытерла руки о полотенце и вышла в прихожую. Громко, стараясь пробиться сквозь лязг музыки, постучала в дверь. Минуты через две та отворилась.
– Чего?! – спросило рослое, под притолоку, создание, возникшее в проёме.
– Олег, – стараясь быть строгой, сказала Ольга, – Димке уроки надо делать, а на кухне я готовлю. Да и тебе не мешает позаниматься.
– Я занимаюсь, – Олег шлёпнул брата по затылку. – Иди садись. Но только тронь чего! Жрать скоро? – спросил у матери.
– Скоро. Пока молока возьми.
– А мне? – вынырнул Димка из-за брата.
– И тебе тоже. Обделили бедненького.
Ольга вернулась на кухню.
– Мясо горит! – раздражённо бросил Николай.
– Помешал бы…
– Ещё чего! Ты ни о чём не думаешь, а я за тебя ещё жрать буду готовить?!
Олег, появившись на кухне следом за матерью, молча достал из холодильника бутылку молока, отхватил ножом полбатона и, захватив стакан для Димки, так же молча повернулся выйти.
– Олежка! – остановила его Ольга. – Мусор... – кивнула на полное ведро, куда только что ссыпала картофельную шелуху.
– Не хочу. Мне заниматься надо. Скажи Димке.
– Ладно, потом.
**********
Вечер, как ни странно, прошёл тихо. Николай так больше ничего и не сказал. Молча поел и ушёл в спальню, где, лёжа в постели, смотрел телевизор, пока не уснул.
Ольга вымыла посуду, взяла веник. Подметая в прихожей, подобрала и бросила в ванную так и валявшиеся сапоги мужа, Димкины ботинки. Вымыв обувь, вынесла её на кухню, поставила под батарею, сокрушённо покачивая головой насчёт слабого отопления. Затем накинула пальто и спустилась во двор с мусорным ведром.
Выйдя из подъезда, она замерла. Свежий морозный ветер встрепенул её тёмные волосы, тяжёлыми прядями лежавшие на плечах, кольнул холодом широко распахнутые, словно в поисках чуда, глаза, те заблестели от мгновенно выступивших слёз.
Высыпав мусор в бак, она вернулась к подъезду, поставила ведро на ступени и остановилась, глядя в ночное небо. Погода была ясная. Небо, подсвечено огнями города, всё было усыпано крупными мерцающими звёздами. Если смотреть на них не отрываясь, постепенно скрываются из бокового зрения дома, ветви деревьев… Словно поднимаешься на невидимых нитях ближе, ближе к звёздам. Или переносишься в степь, где на большое расстояние вокруг ничто не мешает видеть небо, видеть звёзды.
**********
… Она любила уходить в степь. Даже больше, чем в посадки. Из-за этой открытости неба.
Набродившись до устали, ложилась в траву и подолгу смотрела на плывущие облака, в бесконечную глубину неба.
Иногда ей казалось, что сквозь яркую синеву атмосферы она различает звёзды. Одну звёздочку. Далёкую-далёкую. И очень-очень родную. К этой звёздочке с трепетом тянулось сердце. И тогда приходили странные видения.
Приближалась, нарастала звезда, превращаясь в яркое до белизны солнце. Появлялось ощущение, что Ольга уже не на Земле, а на какой-то иной планете. С зеленоватым, в лёгких сиреневых облаках, небом. И не лежит она, а парит, проплывая над поверхностью. Над ещё более неизвестными травами, деревьями, над зелёными реками. И нет тела у неё. Только нежно светящийся розовым плотный туман.
Ольга пугалась этих видений. Но казалось ей – всё это было. Было когда-то. Давным-давно… И ждала она-облако: вот сейчас, сейчас появится рядом другое существо, чисто-голубого свечения… Имя… Она всё хотела вспомнить какое-то имя. То ли своё, то ли того, голубого… Но память не подчинялась ей, возвращая в реальность, в синеву земного неба, в золото колкой сухой травы под локтями… И вспоминала она, что дома…
**********
… Ольга вздрогнула, очнувшись. Ещё раз посмотрела на яркую россыпь звёзд, подхватила ведро и быстро поднялась домой.
Подойдя в кухне к окну закрыть форточку, она услышала тревожный звук сирены. В проёме домой мелькнула, высверкивая синим маячиком, белая машина скорой помощи. «Господи! – подумала Ольга. – В последнее время только и мелькают пожарки да скорые. И все – с маячиками. Да часто-то как! Почему, Господи?!»
Она закрыла форточку, прогнулась, потирая ноющую от усталости поясницу. Хотела уже идти спать, как взгляд её скользнул по брошенной мужем на подоконнике газете. Странный заголовок привлёк её внимание: «Женщина-берёза». «Что за ерунда?» – подумала и взяла газету. Это была та самая газета, которую заботливо подстелил ей на скамейку странный длинный мужчина. Ольга повертела её в руках и, присев на табурет, принялась читать заметку.
Речь шла о непонятной связи женщины с деревом, растущим у неё в огороде.
«– Я была на кухне и готовила обед – рассказывает Светлана», – говорилось в заметке. – «Вдруг будто кто-то полоснул ножом по правой руке, повыше локтя, брызнула кровь. Я закричала от боли. Прибежал муж, который возился со скотиной в сарае, и быстро повёл меня в наш фельдшерский пункт. Но не успели мы сделать и двадцати шагов, как кровь перестала лить ручьём, а глубокая рваная рана затянулась буквально на глазах.
Удивлению супругов не было предела. Вернувшись домой, они долго раздумывали, что бы всё это могло значить. А когда волнение улеглось и они вошли на кухню перекусить – увидели записку от двенадцатилетнего сына Андрея: «Ма и па! Пил сок из берёзы на нашем огороде. Здоровски! Оставил вам баночку».
… Алексей, муж Светланы, опрометью бросился к берёзе: порез, сделанный на уровне детского плеча, был аккуратно заклеен смолой, смешанной с глиной, рана уже подживала».
Дальше говорилось, что супруги пришли к выводу о несомненной связи между Светланой и берёзой, посаженной ещё её бабкой, слывшей колдуньей. Светлана забеременела, когда на берёзе свила гнездо и вывела птенцов птица.
А через три года произошло ещё одно подтверждение этой связи: Алексей заметил на дереве чагу – берёзовый гриб-паразит. У Светланы обнаружилось заболевание щитовидной железы. Принимать гормональные препараты она опасалась.
«Тогда Алексею пришла в голову счастливая мысль: если его жена и берёза болеют одновременно, то одновременно должны и выздороветь. Долото, стамеска, тоненький острый ножичек – вот инструменты, которыми он «оперировал» берёзу. Отковырнул чагу, аккуратно почистил кору по краям, просмолил.
Светлана, конечно же, выздоровела. Но с тех пор неизвестно, за кем больше – за женой, или за берёзой следит заботливый муж».
Ольга пожала плечами. Ох, эти газетчики! Сенсацию из пальца высосут. Хотя… Может, в самом деле, такая связь есть? Мелькнуло в сознании: пожарки, скорые… и – всё с маячиками… И как ожгло внезапной памятью: «– Мам, а у тебя есть любимое дерево?» – «– Орех наш я любила… срубили его этим летом. Говорят – высох». И той же осенью мать умерла… Значит – в самом деле?!
Задумчиво она свернула газету и положила в ящик стола. Туда, где лежала книжка квартплаты и прочие документы.
**********
Проснулась она, как от толчка. За окном серел пасмурный рассвет. «Дым… – подумала Ольга, – опять дым… Даже в комнате запах дыма…»
Повернувшись, увидела, что Николай тоже не спит, курит, лёжа в постели, поставив пепельницу себе на грудь. «Ага, – подумала, – ну, хоть ясно, откуда дым в комнате…»
– Что такое, Коля? – ласково потянулась к мужу. Но тот отстранил её рукой с горящей сигаретой.
– Вставай, давай. Дрыхнешь всё. Пацанам в школу уже надо. Иди завтрак ставь.
– А ты? – спросила Ольга, надевая халат. – Ты почему не встаёшь? На работу же…
– Рано ещё, – криво усмехнулся Николай.
Ольга пошла в кухню, по пути постучав в комнату сыновей:
– Подъём, пацаны!
… Когда ребята ушли, она встревоженно заглянула в спальню.
– Коля, а ты? Мне тоже скоро…
тот по-прежнему курил, лёжа в той же позе. Потом поставил пепельницу на стул у кровати, рывком поднялся.
– Отработался! – бросил зло, натягивая спортивные штаны. = В общем, надо серьёзно поговорить. Пошли жрать.
За завтраком он долго молчал. Ольга тревожно поглядывала то на мужа, то на часы. Опоздать она не боялась, но лучше раньше. Наконец, допивая чай, Николай, не глядя на неё, произнёс:
– Всё! Уезжаем! Надоело всё!
Я – Куда, Коля?! Господи, как же так сразу? Что случилось-то?
Я – Что случилось! А ничего не случилось. Надоело!.. Быков этот… Ну, ты же ничего не понимаешь!.. Он и ключа в руках держать не может, а выпендривается. Ну, я его и послал… И всех послал!.. Всех!.. Иди, увольняйся… Уедем!
– Куда?
– К…матери!.. К моей матери. Там меня мужики все знают. И ты там хоть увидишь, что такое быть хозяйкой. А то вообще ничего не делаешь. Моя мать тебя быстро научит. И огород, и скотина… Быстро научит…
Ольга сидела, растерянная от неожиданности. Наконец, до неё дошёл весь смысл сказанного. Быстро сопоставив услышанное со своими наблюдениями последних дней, она поняла, что Николай уже давно всё обдумал. И, поднявшись, сказала:
– Хорошо, Коля. Как скажешь. Я сегодня же напишу на расчет. Я всё понимаю.
– А! – отмахнулся Николай. – Ничего ты не понимаешь! Дура была, дурой и останешься.
**********
… Ребята новость восприняли по-разному. Димка едва на ушах не ходил от нетерпения и счастья предстоящей поездки, смены впечатлений. Олег же замкнулся, несколько дней вообще почти не показывался из комнаты. Даже обед забирал туда.
Как-то вечером, когда Димка уже уснул, а Николай увлечённо «болел» в спальне за «свою» команду хоккеистов, Ольга сидела на кухне, штопая разные вещи к предстоящему переезду.
Вышел на кухню Олег, в одних трусах, тапках на босу ногу. Напился прямо из-под крана, подошёл к двери, но не вышел, а, прикрыв её, прислонился голой спиной к холодному стеклу, зажав ладони под мышками.
– Мам! – как выдавил из себя.
Ольга оторвалась от шитья, вытащила из вороха белья рубашку, протянула сыну:
– Накинь, а то застынешь. Да сядь, а то у меня шея болит на тебя смотреть.
Надев рубашку, Олег присел напротив матери, снова запрятав ладони на то же место.
– Ну что, Олежка? – спросила Ольга. – Что-то не по себе? – вздохнула тихонько. – Мне ведь тоже совсем не хочется никуда ехать…
– Да зачем нам ехать-то?! Зачем? Ну, хочет он – пусть едет один. А мы чего? Помрём без него, что ли? Толку от него… Ни денег, – всё пропивает, – ни помощи тебе…
– Ну, насчёт помощи, замнём для ясности, – с улыбкой произнесла Ольга, откусывая нитку. – Ты-то здорово помогаешь?
– Ну-у…но я – другое дело! А он же муж тебе всё-таки.
– А тебе отец. Зачем ты так на него…
– Мам, ну, ты, как маленькая! Как я должен к нему относиться, если за всю жизнь… слышишь – за всю свою жизнь! – я нигде с ним не был, ни о чём не говорил? Почему самые ТАКИЕ вопросы я задаю тебе, а не отцу? Почему я, как последний идиот, из дому не вылезаю?!
– Да, кстати, Олег, меня это тоже интересует: почему у тебя уже давно нет вообще никаких друзей? Даже про Свету больше ничего не рассказываешь…
– Света…Она уже не та, эта Света… Да что, ты такая наивная?! Эта Света с Сухарем в бар ходит. Они ж все в прикиде, деньги всегда есть. А я – что? эти несчастные кроссовки и – штопаные штаны?!
– Но, Олег, при чём здесь одежда? Не понимаю. Ты же симпатичный парень, такой начитанный…
– Да кому это всё нужно?! Что толку – симпатичный, если фирмы нет? А начитанность… ты как с Луны свалилась! Они, эти «друзья»… им попробуй рассказать что из книг, – «гы», да «га». Они придурком меня считают! А ты – «начитанный»... И вообще, мам… Ну, давай, никуда не поедем! Ведь это наш родной город. Куда от него? Пусть он один едет.
– А как же мы жить-то будем? – задумчиво спросила Ольга, непроизвольно положив руку на живот.
Этот жест не ускользнул от сына. Он замер, глаза его расширились.
– Мать! – громким шёпотом сказал. – Мать! Ты рёхнулась?! Ну, слушай! Ну, я знаю, что ты у нас более чем странная. Но не до такой же степени!
Ольга смущённо опустила глаза.
– А что, Олежка… ты… так против, д… да-а? – спросила дрогнувшим голосом.
Олег помолчал, осмысливая ситуацию. Потом деловито спросил:
– А он-то, небось, и не знает? – и уверенно сам же ответил. – Конечно, не знает! Ты молчишь. А он же и не заметит… Я помню, как с Димкой драма бала. Он же не хотел его. Он вообще нас не хотел… – опять помолчал и сказал решительно. – Так ты боишься, что не проживем?! Не бойся: я пойду работать. Хоть прям сейчас уйду из школы и пойду учеником. Пока тебе… – разряд получу…
Ольга медленно покачала головой. Поднялась, отложив шитьё на стол. Подошла к сыну, потрепала его светлые, отцовские волосы, заглянула в такие, как у Николая, чисто-зелёные глаза. Сказала тихо и твёрдо:
– Одно ты, Олежка, не учёл. Я люблю его. Люблю! И жить без него не могу. Понимаешь? Есть, кроме меркантильности, такая штука на свете: любовь. И, представь себе – это не выдумка писателей. Это – реальность. Через годы ты поймёшь меня в этом. А сейчас ступай спать – околел уже совсем, – и добавила в спину уходящему сыну. – Ты бы побродил по своим местам… Послезавтра едем.
VI
«Ты куда? Ты куда? Ты куда?»– отстукивали вагонные колёса. Ольга лежала на нижней поле на боку, поджав ноги. В ногах сидел Николай, играя в карты с попутчиками. Наверху, над нею, спал Димка, свесив в проход загорелую тонкую руку. Олег лежал так же наверху, нацепив наушники плейера и покачивая ступнёй перекинутой через поднятое колено ноги в такт ему одному слышной музыки. Ольга пыталась дремать, но побеспокоенный суматохой отъезда малыш гулко ворочался там, внутри, стучась головкой под самое сердце. Ольга гладила его через живот, тревожась, что неправильно он расположен, могут быть осложнения.
С удивлением она думала, что Олег прав: Николай до сих пор не заметил её положения. Полноту её ругал, осыпая упрёками в неумеренной еде, лени и Бог весть в чём. Сама она почему-то не хотела говорить ему. Как решилась в сорок лет, да третьего… не сорок, конечно, но всё равно… Она сама не понимала. Получилось так. И решила: раз есть – пусть живёт.
Вагон качало. Колёса отсчитывали стыки, бормоча уже другое: «Как ты там? Как ты там?» «Плохо», – вздохнула Ольга. Она тяжело поднялась с жёсткой постели, сунула ноги в туфли и, накинув на плечи пальто, протиснулась между играющими, прошла в тамбур. В дверях не было стекла, и холодная декабрьская ночь врывалась в тамбур всем многоцветьем дальних и ближних бегущих огней, ярким, крупными, хороводом кружащими, звёздами. Ольга ухватилась за стылые прутья дверного окна и жадно вдыхала холодный свежий воздух. Глаза её не отрывались от звёздного хоровода.
– Ты чего? – раздался внезапно голос мужа следом за лязгом закрываемой двери вагона.
Ольга, не оборачиваясь, вдруг произнесла:
– Коля, у нас будет ребёнок.
– Чего? – не понял тот. Она не стала повторять. – Чего ты сказала?! – он резко повернул её за плечи к себе лицом, окинул колючим взглядом. – Ты что, икряная?! – Ольгу передёрнуло от этого определения. – Говори, сука, от кого?!
– От тебя, родной, от тебя… – горько усмехнулась Ольга. – Ты не помнишь – наш единственный отпуск вместе? Ту сумасшедшую ночь, хоровод звёзд над морем… И чайка… чайка лунного цвета пролетала над нами…
– Тьфу! – сплюнул Николай на замызганный пол и жадно затянулся. – Чего придумала! Какие чайки?! Тебе сколько лет? Идиотка!.. Приедем – к врачу!
– Поздно, – улыбнулась Ольга. – Очень поздно. А ты… и не заметил…
– Сдурела! Ей Богу сдурела! Мало тебе двух? И тех ни одеть, ни обуть, ни прокормить... На кой чёрт?!
– Знаешь, Коля, – вновь повернулась Ольга к летящим огням. – Знаешь, о чём я сейчас думала? Когда человек рождается, – это как сотворение нового мира. Смотри! «Да будет свет!» – первое, что ребёнок видит, – это свет и больше ничего. Потом чередуются свет и тьма. Потом появляются светила: его выносят на прогулку, он видит Солнце, видит Луну, звёзду… Потом – Тверь земная под ногами, учащимися ходить… И дальше, дальше… Всё в точности! И я ощущаю себя Творцом, создающим новые миры…
– А сучкой толстозадой ты себя не ощущаешь?! – взъярился Николай. – Ты только жрать, да спать, а я на вас – паши?!
Раскипятившись, он замахнулся на неё, как обычно. Она не уворачивалась. Только глянула с болью и прикрыла рукой живот.
Я – Он уже бьётся, Коля. И всё слышит. Ты хочешь, чтобы он знал, как ты его не желаешь?
Да! – вдруг трезво-спокойно произнёс Николай. – Пусть знает, как я его не желаю.
Он выбросил окурок мимо лица Ольги в окно и, молча грохнув дверью, вернулся в вагон.
Ольга изо всех сил вцепилась в прутья. Её трясло. Она кусала губы и смотрела, смотрела, смотрела сквозь набегающий слёзы на бесконечный хоровод ярких звёзд. «Где ты, далёкая, родная?! Забери меня! Я здесь такая чужая!» но не могла она среди тысяч отыскать ту, единственную, видимую сквозь синеву дневного неба.
VII
– А у нас тут то ж бывает: горят деревья-те. Но мало. Таких пожаров не случается, - говорила Ольге свекровь, невысокая полноватая, с когда-то красивыми чертами расплывшегося лица. – Вообще, у нас тут тиха. Посёлок-те небольшой… Ты куда работать-те пойдёшь? – без всякого перехода спросила вдруг она. – Може, до меня на ферму? Та де ж там, не приучена к скотине-те… А то – почтальонка у нас недавно померла. Непонятно чего. Сердце вдруг. Така хороша была… Я ей всегда с пенсии давала. Почтальоном хорошо: всегда лишний приработок с пенсий, переводы если… Коля! – обернулась она к вышедшему на кухню, где сидели они за столом после завтрака, сыну. – Ты ж вот смотри: тополь твой как вымахал! Всю воду с огорода качает, проклятущий. Да ещё корни под хату пустил. Срубить его, что ль? Всё на дрова пойдёт…
У Ольги вдруг тревожно замерло сердце.
– Зачем?! Не надо! – воскликнула она. – Ведь это ЕГО дерево.
– Ну, дак что ж, век ему расти, коль мешает? – удивилась свекровь. – Хату-то корнями может порушить. Сруби ты его, пока не на работе, – вновь обратилась к сыну.
– Завтра, – откликнулся тот. – Сейчас пойду к Генке – он обещал в свою бригаду взять. Надо поставить… У тебя есть что в заначке? Давай, давай, мать! Чтоб у тебя, да не было.
Свекровь, недовольно поджав губы, ушла вглубь дома, через некоторое время вернулась с газетным свёртком, скрывающим большую бутылку.
– Первак? – весело встряхнул свёрток Николай.
– Водка. Ещё чего, самогонку для такого дела. Не на день, чать, идёшь к ним. А Генка – мужик толковый.
… Ночью Ольга жадно-ненасытно ласкала мужа.
– Коля, Коленька! Родненький ты мой, единственный! – горячо шептала она. – Я такая счастливая, что ты есть у меня! Это ничего, что порою ссоримся… а я всё равно тебя люблю-люблю-люблю! Правда! Это ты притворяешься строгим и злым. А на самом деле добрый-добрый и нежный-нежный!
– Да хватит тебе уже! – пробормотал муж. – Взбесилась, что ли? Ну, чисто, мартовская кошка! Спи, давай.
– Коленька, – проговорила Ольга, затихнув, было, на плече мужа, приподнялась на локте, пытаясь заглянуть в глаза, сожалея, что здесь не город, – света с улицы нет. – Коленька! Не надо его рубить! Ну, корни ту обрежь, а весь не надо.
– Да брось ты! Начинаешь опять за свои деревья… Как маленькая – не знаешь будто, чем печку топят!
– Знаю… Но ведь это – ТВОЙ тополь. Не надо, Коленька! Тревожно мне: беда будет! – вполголоса убеждала Ольга. – Помнишь газету ту? Где про берёзу. Ты же читал… Кажется мне – ты тоже со своим тополем связан. Срубишь – беда будет…
– Долго вы там кудахтать будете? – раздался за стеной голос свекрови. – «Беда, беда…» Накличь ещё беду ту!
– Коля! Ну, пообещай, что не будешь! – умоляющим шёпотом произнесла Ольга.
– Да хватит тебе! Придумала тоже… Спи! – отвернулся Николай, резко откинув её руку со своего плеча.
Ольга беззвучно плакала. Непонятная тревога и тоска сжимали сердце. Перед глазами вставали страшные видения: оловянно-застывший взгляд Николая, отблески огня и – кровь на белом снегу.
Наплакавшись, кое-как отогнав жуткие видения, Ольга уснула уже под утро.
**********
… «Дз-занг, дз-занг, дз-занг…» – услышала она сквозь сон странный металлический звук. Открыла глаза, некоторое время с недоумением разглядывала потолок, стены, вновь позабыв, что она уже в другом доме, далеко от привычного мира.
«Дзанг!» – вновь донеслось со двора.
– Ну, вот. Сейчас мы с тобой, дружок, попрощаемся! – послышался голос Николая.
И вновь, как ночью, чёрной тенью нахлынула на неё тревога, сжалось дол боли сердце, гулко застучал кулачками малыш: «Спеши, спеши!»
Ольга вскочила с постели, сунула босые ноги в сапоги, в коридоре, сорвав с вешалки, второпях надела пальто поверх ночной сорочки, выскочила на заснеженное крыльцо дома.
– Не на…! – только успела выкрикнуть.
Всё произошло в одно мгновение. Вдруг вскинул ветви обречённый тополь, осыпая снежную пыль, звон полился, жаля душу печальной мелодией, вспыхнуло почти бесцветное пламя, разом охватив всё дерево. Топор вырвался из рук Николая на взмахе, взлетел, ударился обухом о пылающее дерево и, отскочив, только что отточенным лезвием с жутким хряском вломился в голову Николая.
Как подкошенная, Ольга свалилась на крыльце без сознания.
Когда она очнулась, во дворе было несколько соседей, сбежавшихся на происшествие. У некоторых в руках были вёдра: собирались тушить пожар, вспыхнувший, как они решили, на подворье у Семеновны. Сама она с ране ушла на ферму.
От дерева осталась лишь горка пепла. Лёгкий ветер вздымал его и осыпал лежащего рядом, в луже крови, Николая. Тут же валялся топор с обгоревшей рукояткой. Пятна крови ярко выделялись на припорошённой пеплом белизне снега, чуть подтаявшего от огня.
Пошатываясь, Ольга прошла мимо молчаливо расступившихся соседей. Упала рядом с мужем на колени, склонилась над ним, опираясь ладонями о снег, заглянула в застывшие уже навсегда оловянно-мёртвые глаза.
– Коля! – прошептала, – Ко-о-лень-ка-а-
– Коленька! – вторила ей, прибежавшая с фермы, свекровь, обнимая погибшего единственного сына.
И вдруг, выпрямившись на коленях, с ненавистью глянула на молча плачущую Ольгу:
– Ведьма! Это всё ты! Ты всю жизнь ему испортила, погань засратая! И со свету изжила, – она повернулась к соседкам. – Вчера, когда-ть говорили мы с Коленькой про тополь этот, она и напрочила – беда, мол, будет. Ой, сыночек же ж ты мой ненаглядный!.. – заголосила, упав на грудь Николая.
Соседки, косо переглядываясь, шушукались. С невидящим взглядом, ошеломлённая, Ольга тяжело поднялась с земли, пошла со двора.
В конце улицы её догнал Олег.
– Мам, ты куда?! мам, ты что?! – запыхавшись, бормотал он, неловко обнимая мать за плечи. – Бабка-дура, ляпает, а ты…
– Но ведь я, правда, так говорила, – безжизненным голосом отозвалась Ольга. – Правда! Я же молчать должна была… а я сказала… А он… он же в противоречие стал неосторожным… Молчала бы – ничего не случилось бы… Я убила его! – вдруг выкрикнула она.
– Ну, что ты глупости городишь, мам?! Помешалась совсем… Ну, предчувствовала, – это же так и должно быть с любящими… Ты же любила его… – Олег повлёк мать в сторону дома. – Пойдём домой, мам… А то там Димка сейчас из школы прибежит…
– А ты почему не в школе? – безучастно спросила Ольга.
– Сказали…
Димка всхлипывал, вжав конопатую мордашку в плечо бабки. Ольга притянула сына к себе, хотела прижать к груди его растрёпанную светловолосую голову. Но он вдруг резко отстранился, глянул насторожённо-отчуждённо из мокрых, слипшихся ресниц:
– Это правда? Это ты его убила?! – срывающимся от всхлипов голосом прошептал-прокричал он.
Ольга замерла в беспомощной растерянности.
– Ты что, сдурел?! – подлетел к брату Олег. – Что ты мелешь! Говорят же – топор вырвался…
Ольга безучастно огляделась. Десятки глаз сверлили её с любопытным недоброжелательством. «Они что, в самом деле думают, что – я?» – отрешённо подумала и, повернувшись, медленно поднялась на крыльцо, закрыла за собой дверь.
**********
Потом всё было, как в тумане. Следствие, на котором она ничего толком не могла доказать. Как объяснить, что дерево вспыхнуло само собой? В конце концов, написали, что от удара топора случилась искра, и произошло возгорание. Глупо… Нелепо…
Похороны, бестолково многолюдные. Ольга почти не участвовала в приготовлениях. Лишь молча, не считаясь, выкладывала всё новые и новые суммы из денег, вырученных от продажи квартиры.
Она плакала ночами, терзая краешек одеяла. Это слышала за стеной свекровь. Потом весь посёлок судачил о её лицемерии.
Она не проронила и слезинки, прощаясь с мужем. И все говорили, что она бессердечная. Рада, мол, что избавилась.
На девять дней народу было уже меньше. Какой-то мужчина, подсев к Ольге, всё твердил ей:
– Ты ж детей-те не отымай у Семёновной. Она ж одна теперь. Уж никого-те более: детдомовка.
А свекровь, через стол, кивала заискивающе:
– Да-да, Оленька! Вы ж только у меня и остались. Ты ж скажи: я ж к тебе всегда, как к родной. Всё – вам – и тебе, и деткам…
А Ольга вспоминала редкие приезды свекрови к ним. Та, действительно, привозила и мясо, и овощи, варенья… Но, оставшись с Ольгой наедине, всё вздыхала: «Вот, привезла, продать хотела…» И Ольга, не говоря Николаю, отсчитывала по рыночной цене за каждый грамм, за каждую игрушку для пацанов. Вспоминала не однажды брошенное ей в лицо: «Ты ему жизнь исковеркала с выродками своими!..»
И… молчала…
Уходить ей было некуда. Оставалось стерпеться с новыми обстоятельствами. Жить в ещё более чужом мире, среди чужих людей.
«… Это мы в их мире живём, а не они в нашем…»
**********
Ольга устроилась работать почтальоном. Научилась внешне спокойно, хоть всё внутри протестовало против подобного, принимать «пенсионные». «Деткам, Димочке что купишь...» А за спиной – как шип змеиный: «Ведьма!»
Проработала она недолго: подоспел декретный отпуск. Малыш вёл себя молодцом, стойко перенеся вместе с матерью все свалившиеся невзгоды. Врач, наблюдавшая Ольгу, удивлялась:
– В Вашем возрасте, да после таких потрясений… Удивительно!
Димка всё больше отстранялся от матери, полностью попав под влияние бабки. Всё чаще не слушался, начал дерзить. Олег немного приструнивал брата. Ольга же никак не могла решиться на разговор со свекровью относительно враждебных настроений младшего сына: она была сейчас полностью зависима от этой лицемерной женщины.
Олег твёрдо решил, окончив девятый класс, уехать в родной город, поступить там в училище. Поэтому много и усердно занимался. С братом и бабкой фактически не общался. Когда в доме, на подворье требовалась мужская сила, молча и быстро выполнял требуемую работу, не вступая ни в какие обсуждения.
В свободное время помогал матери разносить почту. И тогда они, как прежде, подолгу разговаривали обо всём на свете: от фильмов и книг, до его юношеских проблем.
… Зима была невероятно снежная, морозная. Какая-то праздничная. И потому страшным набатом доносились в посёлок сообщения по радио, в газетах. Всё чаще, всё обширнее вспышки лесных пожаров. Более того: деревья горят уже и в населённых пунктах. Замечено, что это явление наблюдается во многих локальных областях по всей планете, где особенно неблагоприятна экологическая обстановка. В этих же районах зафиксирована повышенная смертность в результате сердечных приступов, травматизма, дорожно-транспортных происшествий.
«Почему они горят?» – Ольга думала об этом непрестанно. И чувствовала, что где-то близко к поверхности лежит ответ. Уже почти видела его, но страшилась вытащить наружу, надеясь, что ошибается. «Кто я такая?! Сотни учёных не могут ответить на этот вопрос, а я…»
VIII
Однажды в конце марта, когда уже вся округа расцветилась яркими сочными красками, в погожий солнечный день Ольга ушла далеко за посёлок. Туда, где изумрудные поля озими граничили с бесконечной опушкой дальнего леса. Она вошла в редколесье с почти счастливой улыбкой на губах. Гладила стволы деревьев, такие странно-упругие на ощупь, от струящихся по ним живительных соков. Трогала кончиками пальцев молодые клейкие листочки и мягкие нежные иголки. Приветствовала их молча, своих безымянных друзей.
Незаметно углубилась в лес, вышла на небольшую полянку, окаймлённую юными пушистыми ёлочками. Посреди полянки, тесно прижавшись друг к другу стволами, росли две берёзки. Ольга подошла к ним и увидела, как стекают из трещинок капли. Она засмеялась и лизнула. Сок оказался совсем не такой, как в магазине, но очень приятный, бодрящий.
Перейдя полянку, заметила лежащий под большой старой елью ствол упавшего дерева. Присела на него и, прислонившись спиной к ели, засмотрелась на кудрявые кроны берёзок-близнецов. Было безветренно. Лесная тишина звенела птичьим гамом. Молчаливо-торжественно стояли вокруг полянки ёлочки, словно охраняя этих, случайных здесь, сестёр-двойняшек. Тонкие ветви берёз переплетались, как в объятиях, чуть пошевеливаясь. И молодые свежие листочки при этом подрагивали, создавая впечатление лёгкой ряби. Как на море, когда тихо-тихо, но чуть морщит поверхность дыхание волн.
Убаюканная этим видением, она, казалось, задремала с открытыми глазами. И вдруг резко дёрнулся внутри малыш. Ольга охнула, сползая со ствола в траву. И в этот миг обе берёзки, словно протестуя, вскинули внезапно тонкие, свисающие ветви. Странный, тревожный, всю душу переворачивающий звон разнёсся над лесной полянкой. Вспыхнуло пламя, в один момент охватив почти прозрачным жаром прекрасные деревья. Вспыхнуло, и с гулом свирепым в несколько минут превратило их в один холмик белёсого пепла. И снова наступила тишина. Тяжёлая, гнетущая, в которой не слышно уже было птичьего щебета.
В смятение, Ольга наблюдала происходящее. Она даже не успела испугаться – так быстро всё произошло. Сознание словно покинуло её. Она полулежала в траве у поваленного ствола, машинально поглаживая живот, где бунтовал, бился головкой под сердцем малыш. И какие-то странные мысли мелькали в её голове.
**********
«В это момент погибли два человека… Два человека…»
«Почему?» – подумалось ей. И словно ответ прозвучал:
«Во имя спасения всех. Сгорев, берёзы выбросили в ноосферу планеты энергию добрую, очищающую. Но, сгорая, оборвали нити, связывающие их с теми людьми, которые остро ощущают родство Природы и почувствовали этот обрыв. Почувствовали и – погибли. Однако и их гибель так же дала всплеск очищающей энергии».
«Значит, в самом деле, есть какая-то связь между людьми и деревьями?» – опять подумала Ольга.
И вновь пронеслось ответом в голове: «Конечно. Всё живое на Планете принадлежит Природе. Душа Планеты не разделяется на людей, животных, растения. Она общая на всех. Потому всё взаимосвязано».
«Хорошо, мне понятно: гибнут наиболее чувствующие эту связь. Но… Коля…»
«Ты так хорошо его понимала все годы, прожитые вместе… А одного, самого главного, так и не разгадала: причины его нервозности, беззащитности. Он вырос в посёлке, рядом со своим тополем, в своём мире Природы. И в городе, оторванный от всего этого, был чуждым. Страдал, сам не понимая, отчего. Завидовал тебе, не зная этого, что ты – в своей среде. А сущность его тянулась всегда к Природе, к своему уголку здесь, в этой округе…»
«Но я ведь и здесь…»
«Ты – другое дело. Таких, как ты, мало. Для основной массы людей – то, что называется «Чувством Родины».
«Непонятно всё же, как действует эта связь – гибель людей вызывает гибель деревьев, или наоборот?»
«По-разному. Есть люди, крепко связанные невидимыми нитями с каким-то определённым, ИХ деревом. Как Светлана. Тогда болезнь или гибель дерева может вызвать болезнь или гибель человека. В этой же ситуации, когда деревья вспыхивают, – они влекут за своей гибелью смерть не определённого человека, а лишь того, кто в данный момент оказался очень уязвим. Часто бывает – никто. Иначе больше половины человечества уже вымерло бы: ведь самосожжение длится уже несколько лет».
«Почему умирают только хорошие?»
«Не только. Внезапная смерть хорошего человека сразу заметна. Гибель плохого обходится сознанием. Но ведь он был плохим с точки зрения человеческой морали. У Природы же свои критерии. Может маньяк-убийца замирать от нежности над невзрачным цветком. Всё относительно…»
«Но почему они горят?»
«Ты знаешь это. Боишься ещё этого знания, но знаешь».
«Знаю?.. Сотни учёных сейчас не могут прийти к верному решению… а кто я такая – знать?!»
«Порой, учёному найти верное решение мешает именно его учёность. Перед лицом Природы что ты, что академик – равны. Даже, в этой ситуации, ты выигрываешь: у тебя нет стереотипа научного мышления, нет внутреннего тормоза. Твоё знание – верно».
«Но ведь тогда верен и способ их тушения: попросить не гореть…»
«Уже поздно. Слишком их много…»
«Но как же, как их заставить? Как погасить это безумное самоуничтожение?!»
Ответ пришёл не сразу и ошеломил: «Вот это мы с тобой и должны выяснить».
«Кто – мы?!» – ужаснулась Ольга.
«Мы – ты и я. Мы – единое целое», – подумалось загадочное.
Ольга тряхнула головой, протёрла глаза, сжала виски. «Что такое?! Я схожу с ума? Ещё чего не хватало!»
Постепенно приходя в себя, она оглядывалась вокруг. Солнце уже склонилось к западу. Поднялся небольшой ветер. Он волновал высокую сочную траву на полянке, осыпая её невесомым пеплом сгоревших берёз.
Лишь к вечеру, усталая и разбитая, с каким-то неясным, мрачным отсветом в глазах, она добралась домой.
Ворчала свекровь. Исподлобья поглядывал Димка. Отмалчивался Олег.
Перекусив, Ольга ушла в свою комнату и, едва успев прилечь на кровать, тут же уснула тяжёлым сном.
**********
В том сне она видела и слышала непонятные, странные события и слова.
Видела всю Землю словно из Космоса. Видела безобразные нефтяные пятна на поверхности океанов и морей. Многочисленные пожары: горели леса, горели степи, горели заброшенные месторождения газа…
Видела она грязные, заросшие и заболоченные реки, ручьи, родники… Солончаки на месте когда-то плодороднейших земель…
И видела дымы из труб. Дыми ядовито-жёлтые, оранжевые, синие… И словно вдыхала этот дым, отравляющий всё живое, окисляющий облака, отчего на землю лилась не живительная влага, а всё опаляющая, сжигающая едкая кислота.
И слова она слышала. Словно разговор двоих, кого видеть не могла.
«– … Нам с тобою дана зелёная зона. Как сами жители её называют, лёгкие планеты, её душа, – звучал один голос, почему-то голубого цвета.
– Её душа… – лился в ответ нежно-розовый, – … душа!.. не в этом ли и вся суть – что зелёный покров Планеты, её деревья – это душа Планеты?.. Потому и гибнут люди, когда сгорают деревья… Почему же они горят?
– Может быть потому… – голубой голос приглушился, потом вновь зазвучал отчётливо. – … сгорая в самопожертвовании, душа излучает невиданной силы энергию…»
Ольга тревожно заворочалась во сне, голоса отдалились, пропали. Но вскоре вновь вернулись:
«… – Почему мы должны вмешиваться и гасить это очищающее пламя? – спрашивал розовый голос.
– Потому что Душа эта лишена Разума. И в порыве самопожертвования может сгореть до основания…» – отвечал голубой.
До утра прометалась Ольга в тревожном, пугающем и, вместе с тем, притягательном сне. Уже на рассвете услышала зов: «Ония! Я жду тебя, Ония!» – слышала странное, незнакомое имя, но почему-то была уверенна – зовут её: «Я жду тебя! Я нашёл…» – она открыла глаза, обрывая сон и голос. Странный голос голубого цвета.
**********
… Всю неделю Ольга, сама не понимая, почему, выискивала причину, по которой ей крайне необходимо съездить в родной город. Это было нелегко: – найти такую причину: вот-вот уже должен был появиться на свет малыш, которого она, за выдержку и стремление к жизни, твёрдо решила назвать Виктором или Никой. Против Ники свекровь не возражала, но мальчика настаивала назвать Николаем. Ольга отговаривалась тем, что негоже давать ребёнку имя покойного.
В городе родном не осталось никого близких, к кому она могла бы съездить. Единственная подруга Светлана уже несколько лет как уехала с семьёй на родину мужа, где развела обширное хозяйство, даром что горожанка.
Дел никаких не наблюдалось. Но всё же Ольга придумала для себя и для всех вескую, как ей казалось, причину. Ей, якобы, необходимо было срочно, обязательно лично, побывать на прежней работе, чтобы добиться какой-то ещё справки для затянувшегося оформления пособия на детей.
IX
И снова отсчитывали стыки колёса ночного поезда…
Ольге билет достался на верхнее боковое место, но помогла проводница, молоденькая чернявая девушка, обменять на нижнее.
Почти всю дорогу Ольга пролежала в полудрёме, то прислушиваясь к перестуку колёс, то засыпая и видя всё новые и новые видения, так похожие на явь, и такие далёкие от реальности.
Ещё, задрёмывая, вновь начинала слышать непонятный зов, но тотчас открывала глаза, не желая поддаваться явному, как она считала, помешательству. И что уж совсем странно, – вдруг стали звучать в голове её стихи. И голос, читавший их, был сухой, надтреснутый и какой-то знакомый. Стихи эти, как и видения, были всё об одном: пожары, газы, гибель Природы…
От искры каменнотопорной
До пламени ракетных стартов
Шёл HOMO SAPIENS упорно
Своей Планеты Геростратом.
Те искры – огненные птицы –
Поразлетались над веками:
Вздымали пламя инквизиций,
Вздували атомное пламя.
Но современным геростратам
Уж мало огненного жара –
Леса сжигают жгучим ядом,
Сжигают воздух – едким паром!
И вижу: в Космосе кромешном,
В прожжённой ядами рубахе –
В озона клочьях обгоревших –
Земля кружится, как неряха.
Жизнь угасает на планете,
Цветущий облик свой утратив.
Сгорают в ультрафиолете
Последние из геростратов…
«О, Боже! – вздыхала Ольга сквозь дрёму. – Как я уже устала от всего этого! И зачем я еду, спрашивается?! К кому, для чего? Откуда взялась эта жгучая тяга к СВОИМ посадкам, к СВОЕМУ дереву? Это ж надо рёхнуться: на сносях, кинув детей в чужом краю, тащиться в такую даль непонятно для чего!»
Но вставали в памяти две берёзки, охваченные бесцветным почти, гудящим пламенем. И приходило странное понимание происходящего. Понимание, невыразимое словами, лишь на пределе интуиции. Она ЗНАЛА, что сможет погасить их. « Но как? – думала. – И почему – я? Мне больше делать, вроде, нечего!»
«Кто, как не ты? Кто, как не ты?» – укоризненно вопрошали колёса поезда и влекли, везли её сквозь звёздную черноту ночи туда, где каждая пядь земли степной, поблизости от города, посадок юных, жарких, помнила звучание её шагов. Домой! Она ехала домой! К СВОЕЙ степи, к СВОЕМУ лесу, к СВОЕМУ дереву над нешироким ручьём. Потому что с каждым промелькнувшим за окном километром всё росла уверенность: она и только она знает причину пожаров. И только она сможет их погасить. Но начать надо там, где, как говорили в старину, зарыта твоя пуповина. А потом… и по всей Земле погасит…
Ольга перестала сомневаться, вдруг поняв, что к тому времени, пока доберётся до посадок, неизвестно откуда, уже будет знать, как действовать.
**********
… В полной растерянности Ольга стояла на опустевшем перроне с детства знакомого вокзала.
Сутки. У неё в запасе всего сутки, чтобы успеть сделать всё. Всё… Но что это – «Всё»?!
Она помнила, что провела в вагоне почти бессонную ночь. О чём-то думала, намечала, что необходимо сделать, в какой последовательности. Но уже утром, когда поезд проезжал последние десятки километров, оставшиеся до цели, неожиданно очень крепко заснула. Проводнице пришлось её будить, когда уже все пассажиры покинули вагон.
И вот теперь она стоит посреди пустого перрона и совершенно ничего не помнит! Не знает: зачем, для чего рвалась, спешила в родной город. Спешила так, что не взяла даже никаких документов. Это она обнаружила только теперь, заметив, что у неё лишь сумка со сменой белья, расчёской, полотенцем да кошельком, где лежала небольшая сумма на обратный билет и на что-нибудь перекусить. Сейчас ей было известно одно: у неё только сутки. Чтобы успеть сделать… Что?!
Ольга ещё немного потопталась на месте, а потом решила всё же поехать в город. Поняла так, что со сна совсем ошалела и, развеявшись, вспомнит всё. А пока поедет туда, куда сердце позовёт.
Не торопясь, вышла на привокзальную площадь. Уже разъехались все такси и автобусы, чьи рейсы были подгаданы к приходящим и отправляющимся поездам. Дальше, по параллельной улице, куда вёл от вокзала короткий переулок, проходила трамвайная линия.
Ольга направилась в переулок. Выйдя к рельсам, на мгновение задумалась, в какую сторону ехать: направо – туда, где, затянутые сизым дымом, всё горят, всё вспыхивают посадки? Нет, туда пока рано. «Странно, – подумала Ольга, – вот уж сколько лет они горят, а всё ещё существуют. Конечно, эта необычность вспышек без перекидывания огня, может прояснить подобное. Но потому и не проясняет, что – необычность».
Ольга перешла рельсы и направилась к остановке, от которой ехать к центру города и дальше, к противоположной окраине, где – просторная степь, сейчас изумрудная от молодой травы и озими полей. Решила ехать до конечной и, хоть недалеко, хоть на чуть-чуть, выйти в этот простор. А уж потом… Потом – видно будет.
**********
… Слегка оглушённая, после тишины посёлка, дребезжанием трамвая, Ольга знакомой тропинкой прошла задами последних городских домов в открытое поле.
Всё же, давно она здесь не бывала, года три. И перед отъездом не сумела вырваться, попрощаться. Оказывается, здесь, у окраины, развели огороды. Пришлось пробираться дальше межами среди засаженных аккуратных прямоугольников. Огороды тянулись неширокой полосой по два в сторону степи. Но вдоль окраины занимали большое пространство. На некоторых участках вдалеке работали люди. Если кто и заметил Ольгу – вряд ли обратили особое внимание.
Пройдя огородами, она пошла по непаханой, свежими сочными травами покрытой, степи. Не очень далеко впереди виднелся курган, на вершине которого, Ольга знала, словно кресло, лежал огромный, в рыжих лишайниках, валун.
Она поднялась на курган, постояла, запыхавшись, оглядывая родную до щемящей боли в сердце округу. Степь уходила разноцветьем далеко к горизонту, где слева переходила в посадки, а дальше, лесополосой отделённая, граничила с полями пригородных сельских хозяйств.
Ольга достала полотенце, постелила на валун и села, опершись спиной о «спинку кресла». Не думала ни о чём. Просто сидела, дышала запахами молодой степи, смотрела на изумрудную зелень, на тёмные прямоугольники огородов, на лёгкие пушистые облака, белоснежными ангорскими котятами ползущие по синему небу.
В очередной раз поглядев на облака, она отметила, что одно из них почему-то голубое, лишь слегка отличается по цвету от неба и плывёт, как ни странно, совсем в другую сторону. Было оно почти правильной овальной формы. В полёте лёгкие завитки отделялись от него, но тут же возвращались, сливаясь с общей массой. Приоткрыв от изумления рот, Ольга наблюдала за невиданным облаком. Не меняя скорости, оно проплыло довольно низко над курганом в сторону города.
Когда облако было над головой, Ольга почему-то ощутила прилив щемящей нежности и невероятной тоски. Её до жути захотелось подняться к этому облаку, слиться с ним в одно и…
У неё закружилась голова. На какое-то мгновение сознание померкло, и она услышала, нет, не услышала даже, а словно сама подумала: «Ония! Я жду тебя, Ония… я знаю, что делать… найди меня… найди Андрея Осина – он всё знает… Ония!..»
Ольга стряхнула с себя оцепенение. Что это?! Где она это уже слышала? И, словно завеса упала: разом вспомнились ночные, в поезде, видения, происшествие в лесу, сны… И зов… этот зов…
Она сжала виски. «Боже! – прошептала. – Я, кажется, действительно схожу с ума! Зачем я сюда приехала? Что должна сделать? Справка? Какая ещё справка! Ведь это я всё придумала!» Откинув голову на «спинку», снова начала смотреть в небо, чтобы немножко успокоиться.
И вот, как бывало, сквозь синеву засветилась, замерцала далёкая-далёкая, родная-родная звёздочка. Вот приблизилась она, превращаясь в яркое до белизны солнце. Вот облака плывут уже не белые, а сиреневые по ставшему зеленоватым небу. И она проплывает ниже их, против общего направления. И видит, ощущает весь окружающий мир. Мир незнакомый и родной. Неизвестные травы и деревья, – она впитывает в себя их нежный пьянящий аромат. Зелёные реки и ручьи, – она слышит их лёгкое журчание, сквозь прозрачную зелень воды различает каждый камушек на дне, стайки пёстрых весёлых рыбёшек…
И вдруг, контрастом, видит она Землю, словно из Космоса. Всю в уродливых пятнах пожаров. Нефть на поверхности океанов и морей, косяки мёртвой рыбы, безвольно носящиеся по волнам… Заболоченные, заросшие реки и ручьи с водой мутной, тяжело-жёлтой… Пустынные солончаки на местах когда-то плодороднейших земель… И лес – ЛЕС! – труб, выбрасывающих в небо клубы ядовито-жёлтых, оранжевых, синих дымов. Эти дымы смешиваются с облаками, окисляют их – и льётся на землю не живительная влага, а жгучая, всё уничтожающая кислота…
Словно вдохнув этот дым, Ольга судорожно хватала ртом воздух. Она вновь осознала себя сидящей на вершине кургана. Вдали, над городом исчезало, сливаясь с небом, странное голубое облако.
**********
Ольга поднялась, опираясь о камень. Она знала – ЗНАЛА – зачем она здесь, что должна делать! Бросив полотенце в сумку, спустилась с кургана и направилась в сторону города.
Из трамвая вышла в центре у рынка. Зашла в столовую, взяла недорогой обед. Есть не хотелось, но нужно было думать о малыше: ему необходимо.
… Выйдя с рынка, Ольга остановилась у крайнего киоска и огляделась. Всё было, как обычно. Сумрачные, сосредоточенные люди спешили скупиться или с покупками – к трамваю и автобусу. У киоска, на обычном месте, восседал, обнажив на солнце скрюченные лапки, Саша. Ольга улыбнулась. Подсчитав свои ресурсы, выделила таки какую-то мелочь и, подойдя, склонилась, придерживая живот, аккуратно положила деньги в кепку у ног калеки. Тот скользнул по ней безразличным взглядом. Но вдруг глаза его прояснились, и хриплым голосом он воскликнул:
– Эге! Да и де ж это ты пропадаешь? Давненько я тебя не видал! Эк, округлилась… Да не обижайся ты, постой! – крикнул вслед удаляющейся смущённой Ольге.
Она оглянулась. Постояла, что-то прикидывая, вернулась:
– Уезжала я, Саша, – ответила. И спросила. – Саша, вы многих в городе знаете… не знакомо Вам такое имя: Андрей Осин?
– Андрюха-то?! – изумился Саша. – Да это ж мой давний приятель! – и, заметив тень смущения, вновь мелькнувшую в лице Ольги, добавил. – Поэт он. Где живёт сейчас – не скажу. Но в газете, по радио говорят, пишут. Он тебе очень нужон-то? В газету сходи: там-то знают. А ко мне он подходит. Вот, намедни был…
Ольга поблагодарила и отошла. Занятно! Ведь она встречала прежде в газете эту подпись. Не обращала внимания… «Что ж, – решила, – схожу в редакцию».
В редакции она несколько растерялась. Села на диванчик в приёмной, рассеянно полистала подшивку на низеньком столике рядом.
– Вы к редактору? – спросила, куда-то выходя, секретарша. – Он сейчас занят. Обождите.
Ольга постеснялась спросить у неё, объясняя себе, что не хочет задерживать спешащую девушку.
Просидела в одиночестве несколько минут. Дверь кабинета открылась и оттуда, продолжая разговор, вышли двое. «Как Тарапунька и Штепсель», – мелькнуло у Ольги сравнение по ретропередачам телевидения. Длинный, невероятно худой, остроносый «Тарапунька» доказывал своему низеньком кругловатому собеседнику:
– Да поймите же, Евгений Николаевич! Самое время – сейчас. И именно к моменту подходит.
– Люди и так на пределе тревоги, – возражал ему тот. – Только и время. Придумал тоже! Взрыв будет!
– Так это и необходимо! – настаивал высокий. – Необходим взрыв. Иначе всё так и будет продолжаться – тихо, безразлично… Подумайте!
Коротышка помолчал, энергично потирая подбородок. Потом, словно отметая последние сомнения, махнул рукой:
– Пожалуй, ты прав, Андрей. Пусть! Взбучку я, конечно, получу обязательно. Но завтра… да-да, завтра же и пустим в эфир.
– Ну, вот и лады!
Широко улыбнувшись, Андрей пожал редактору руку и быстро прошагал через приёмную. Оглянулся в дверях, бросил весело:
– Живы будем – услышим. Прощайте, Евгений Николаевич!
Ольга поднялась с дивана, неуверенно смотрела вслед уходящему. Где-то она его видела…
– Вы ко мне? – спросил её редактор.
– Это – Осин? – ответила она вопросом.
– Он самый… – только успел ответить тот, и она, как могла, заспешила следом за убегающим, через три ступеньки скачущим по лестнице, Андреем. Хотела окликнуть, но замешкалась: «Что я ему скажу?!» А когда решила – будь, что будет, – и вышла на улицу, было уже поздно: Андрей вскакивал на подножку уходящего трамвая. Уходящего в сторону посадок…
Ольга заспешила на остановку к вновь приближающемуся вагону.
X
У самого ручья Ольга увидела мужчину. За ручьём вспыхивали деревья. Тонкий жалобный звон разливался вокруг. Мужчина стоял лицом к огню, опираясь ладонью о ствол дерева. ЕЁ дерева. Длинные рыжеватые, чуть тронутые волосы его взметались в порывах жара, налетавшего из-за ручья.
Ольга замерла, хрустнув попавшей под ноги веткой. Мужчина резко обернулся, и она увидела знакомое остроносое лицо. Андрей осин. Странный длинный мужчина в осеннем сквере… «расскажите о своём любимом дереве»…
Увидев её, Андрей не удивился. Погладил ствол дерева:
– Это оно – «весной такое нежно-изумрудное. И золотое…»?
– Да, – ответила она, подходя.
Андрей протянул руку, помог перешагнуть через старый обугленный, не по своей воле сгоревшего дерева, пенёк. Остановившись у СВОЕГО дерева, Ольга так же положила ладонь на ствол, ощущая, как нагрелся он от близкого жара. И испугалась, что оно тоже может вспыхнуть. Взглянула в глаза Андрея и увидела, как что-то неуловимое промелькнуло в его лице, взгляде, и – словно уже другой человек это был.
– Ония! – сказал он тихо. – Ония! Ты пришла… Родная! Душа моя! Мы не затерялись, Ония… мы всё-таки встретились!
Ольга ошарашено попятилась от явно сумасшедшего. Забормотала едва разборчиво:
– Вы… Вы ошиблись… простите… Вы обознались…
Повернулась уйти, но в это время резко и требовательно задёргался, заколотил кулачками малыш. Ольга охнула и села в горячую траву, обхватив живот обеими руками.
Андрей подбежал к ней, опустился рядом на колени. Гладя в глаза, провёл ладонью по её животу.
– Успокойся, родная! И ты, малыш, успокойся: всё хорошо. Мы встретились, Ония! Смотри мне в глаза! Вспомни! Я – Альхос, – твой единственный в веках и пространствах. Так же, как и ты для меня. Вспомни, Ония! Вспомни! Ведь ты пришла на мой зов. Значит – слышала… Вспомни!
Боль отступила, малыш успокоился, но Ольга по-прежнему в страхе смотрела на этого человека. Что ему нужно?! Она совершенно забыла, что зачем-то сама искала с ним встречи. Видела его горящие добром, разумом, любовью глаза и никак не могла взять в толк: зачем ему понадобилось настойчиво доказывать ей, что она – это не она, а какая-то неизвестная Ония.
Андрей опустил глаза, замолчал. Снова заглянул в её лицо с нежной требовательностью. Потом спросил устало:
– Кто же ты? Как тебя зовут?
Сухими губами Ольга произнесла своё имя.
– Ты сильная, Оля… очень сильная! – произнёс поэт. – Скажи, что привело тебя сюда, в этот ужас стихии? – Андрей оглянулся за ручей, где опять вспыхнули, со звоном тревожным, несколько деревьев. – Надо спешить! Они всё чаще загораются. Будто сговорились… Ты что, можешь остановить это безумие? – нетерпеливо обернулся он к Ольге.
– Не знаю… Я так думаю… Потому что загорелся тополь, преданный СВОИМ человеком… Потому что гибнут они нелепо от порождённых людьми кислотных дождей… И вообще… они – душа Природы, а Природа сейчас так страдает! Конечно – обида…
Ольга поднялась, опираясь о плечо поэта, подошла к СВОЕМУ дереву, погладила горячий тёмный ствол.
– Это моё дерево. Я не знаю его имени. Только сердцем чувствую: оно – МОЁ. С ним я связана одной судьбой. Ему страшно и больно. И я пришла на эту боль, ощущая её в своём сердце, – она вновь погладила ствол, прошептала одними губами. – Я с тобой. Не бойся: я не отдам тебя огню.
Андрей подошёл сзади, сказал мягко, положив руки ей на плечи, дрогнувшие от очередной вспышки за ручьём.
– Только не пугайся, Оля… Значит, она всё-таки общается с тобой. Просто ваши сущности оказались настолько схожими, что слились в единое. А личность твоя настолько сильна, что не выпускает её… – Ольга вздрогнула. – Не бойся, прошу тебя! – повторил стоящий за спиной мужчина. – У меня с Андреем получилось легче. Сейчас сущность Андрея молчит, с тобой говорит Альхос. Мы – я и Ония – пришли помочь спасти зелёный мир Планеты. Мы должны были сделать это вместе. Но придётся мне одному… – он осторожно повернул Ольгу к себе лицом. – Ония! – сказал тихо, готовый к отрицательной реакции Ольги. – Слышишь меня, Ония? Я иду один. Я постараюсь вернуться, и буду ждать тебя. Буду ждать до конца!
Смутно, интуитивно, Ольга поняла весь смысл сказанного. И попросила:
– Так заберите её! И я уйду: мне же рожать скоро!
– Увы, Оля! Это невозможно: ты не выпустишь её, даже потеряв сознание. Только после ухода из жизни… – он опустил голову, помолчал. Потом снова пронзительно заглянул в её глаза. – А ты иди, Оля. Уходи отсюда. Я один пойду… Мы с Андреем пойдём: он всё знает, и сознательно согласился на риск… А это дерево, Оля, – оно ольхой зовётся… Оно и моё дерево. То есть, Андрея. Ты должна была это знать. Но… ты слишком сильная для этого… Ольха – хранительница вод. Пока она растёт по руслам рек, ручьёв, – им не грозит пересыхание. Значит, ольха – хранительница леса. Ты сбереги её… даже если… Сбереги!.. Прощайте!
Альхос-Андрей в последний раз заглянул ей в глаза и, повернувшись, зашагал к ручью. Вошёл в него, неуклюже переставляя ноги на илистом дне, перешёл вброд. Воды было немного – чуть выше колен.
Ольга стояла, прижавшись к дереву боком, гладила ствол ладонью, гладя вслед уходящему в пламя человеку. Он оглянулся на том берегу, вскинул руку:
– Я жду тебя, Ония!.. Прощай, Ольга!
– Прощай… – тихо ответила она. Но, вдруг встрепенувшись, крикнула:
– Она придёт к тебе, Альхос!
Он широко улыбнулся, вновь помахал рукой и, уже не оглядываясь, вошёл в горящие посадки.
Ольга наблюдала за ним. Вот он подошёл к только что вскинувшему ветви дереву, что-то проговорил. И – чудо, – но она не удивилась ему: ветви опустились, листва затрепетала и замерла. А Андрей погладил ствол, поцеловал его и пошёл дальше. Вот подошёл к уже вспыхнувшему дереву, безбоязненно коснулся его ствола, охваченного пламенем, так же что-то сказал, и пламя исчезло, слегка обуглившиеся ветви опустились, затрепетали, сбрасывая успевшую обгореть листву, оставив уцелевшую…
Всё дальше и дальше уходил поэт. Ольга уже стала терять его из виду за оставшимися в живых деревьями. «Если бы каждый сейчас… – подумала грустно – если бы каждый пожалел хоть несколько деревьев… а так, один…сможет ли он остановить?..» Он уходил, – так долго искомый, ожидаемый и почти неузнанный ею, человек-звёздочка. «… Чтобы соединиться – сгореть надо. Это страшно. И кто на это пойдёт?..» – вспомнила она их странную беседу в сквере. Вспомнила его вопрос: «Вы бы пошли?» «Нет, вряд ли…» – ответила тогда она…
А там, в лесу, во время странных видений… именно это она предполагала тогда: «Пожалеть, попросить их не гореть…» И ответ… теперь понятно: это Ония таинственная ей и отвечала, видимо, понявшая больше, гораздо больше, конечно, понявшая, и, не имея возможности вырваться из её, Ольгиного разума, советовала, подсказывала: «Поздно! Их слишком много…» Что она ещё говорила? Что?! что-то очень важное… Вспомни, Оля, вспомни! От этого, наверное, зависит и жизнь того, ушедшего в огонь человека, и, кто знает, может…
**********
… Резкое, нетерпеливое движение малыша внутри подсказало ей: пора. Она не испугалась. Охнув только от неожиданности, села, а после легла в траву. Спокойно освободилась, отбросила в сторону бельё, продолжая придерживаться за ствол ольхи. Ей казалось: пока не выпускает её – всё будет прекрасно.
Внезапно тревога овладела ею, в голове замелькали идущие невесть откуда, настойчивые слова: «Ония! Ония! Нет сил… Оля, попробуй, выпусти её!.. Это можно лишь вместе… всем вместе… каждому… люди-звёздочки так далеки друг от друга… чтобы соединиться – нужно сгореть… почему на это никто не решится?.. Ония! Остаётся лишь взять это себе… взять их способность самовозгораться… только так… Ония!.. Оля, отпусти!.. нет?.. нет… Я иду на это один, Ония!.. я иду на это…»
Ольга резко села, выпустив ствол ольхи, сжала виски ладонями: «Иди, иди к нему, глупая… иди, он же сгорит!! – умоляла непонятно кого. Вновь упала в траву, сражённая резкой болью начала рождения, молча кусая губы, ждала появления своего малыша. Вскинулась, потянулась к сумке, выхватила полотенце…
В это мгновение взрывом огня, снопом искр, вспыхнуло над нею дерево.
– Не-е-ет! – закричала Ольга, теряя сознание, из последних сил дотянувшись до ствола, обжигаясь, охватила его ладонями.
ЭПИЛОГ
Ония резко взлетела вверх, выше вспыхнувшего дерева. Увидела, как лежащая под ним толстая немолодая женщина, разметав в траве тёмные с проседью волосы, бессознательно цеплялась за пылающий ствол, шептала одно: «живи!.. живи!.. живи...»
И огонь послушно угас. Женщина, раскинувшаяся в последнем беспамятстве, этого уже не видела. А в траве между её ног закопошился, закричал комочек живой плоти.
Ония опустилась к ним. Выпустив из сущности несколько завитков, охватила ими младенца, перенесла на чистое место. Затем завихрила воронкой воду ручья и заставила воду плеснуть на малыша, обмыв его. Немного подумав, отделила от своей сущности часть и розоватым куполом укрыла мальчика: выполнив защитную функцию, эта часть её потом сольётся с сущностью ребёнка. «Ты ведь и меня частичка, – подумала Ония, – пусть и тебе останется моя часть. Живи!»
Она вновь взлетела ввысь, оглядела следы пожара. Услышала летящие к ней слова-мысли: «… только отняв у них эту способность… я иду на это…» Ещё раз глянула на распластанное внизу тело рядом с возвращённым к жизни деревом, уловила чистое излучение идущее от него. Не дала ему рассеяться, впитала в себя: «Я возьму чистоту твоей души, Оля – подумала для неё, уже ничего не слышащей, не воспринимающей, – ты исполнишь вместе со мною, вместе с нами то, о чём догадалась сама, – может быть, единственная из всех людей Планеты… ты взяла эту способность у одного дерева. Вместе мы отнимем её у всех деревьев, и остановим это безумие самоуничтожения Природы. Разве ради этого не стоит пойти на самосожжение?»
«Я тоже… мы тоже идём на это, Альхос!» – послала она ответ. Затем сосредоточилась, готовясь к важному шагу, начала подниматься выше и выше, к облакам. Далеко внизу, под одним из погасших деревьев, увидела лежащую в опалённой траве длинную нескладную фигуру поэта.
**********
Ония слилась с облаками, рассеивая в них сущность всё обширнее, отчего они приобрели розоватый закатный оттенок. Распространившись на достаточную площадь, ринулась вниз, увлекая за собой облака.
**********
… Странный, светящийся розовым, туман упал на лес. Люди, видевшие это, рассказывали потом, что вслед за розовым вдруг сгустился в вышине и так же быстро опустился на дымящиеся посадки, голубой туман. А несколько минут спустя, переливающееся розовым, голубым, сиреневым, облако медленно всплыло над угасшим лесом и, сжимаясь до плотной яйцевидной формы, плавно поднялось в небо, постепенно превращаясь в светящуюся сиреневым звёздочку, которая, однако, скоро растворилась в очищеном от облаков ярком весеннем небе.
**********
… Вторую неделю работавшая в районе комиссия из центра – академики, членкоры и прочие, – долго ходили по гарям, не жалея спецкостюмов. Обсуждали, и не могли прийти к верному решению: почему иной раз, среди выгоревших дотла посадок, вдруг оказывались не тронутые огнём деревья. Почему трава на пожарище, хоть и пожухла от жара и горячего пепла, – не выгорела.
В довершение ко всему, были обнаружены два трупа. Один, мужской, в котором был опознан местный поэт, Андрей Осин, находился среди сплошной гари под единственным здесь уцелевшим деревом. У него были сильно обожжены кисти рук. Второй труп был – неизвестной женщины.
Но самое странное – довольно далеко от неё, лежал в нетронутой траве чисто обмытый новорождённый мальчик. Экспертиза заключила, что женщина умерла при родах. Поэт – ещё раньше. Кто перенёс и обмыл ребёнка, было загадкой. Как бы там ни было, он был жив и абсолютно здоров.
Не придя ни к какому конкретному решению, в тот же день комиссия вылетела в центр. Больше не было зафиксировано ни одного возгорания деревьев.
А среди жителей за день произошла только одна смерть, не вызвавшая никакого удивления: умер бомж Саша. Сашу помнили с детства почти все жители города: он был явной достопримечательностью. И скончался тихо, сидя на своём валуне, покрытом кусками картона. В кепке переде ним поблёскивало несколько монет.
**********
… Тоскливо-тревожно звенел зуммер опасности. Хаотично метались на панели пульта огоньки, освещая два наглухо закрытых прозрачными колпаками ложа вспышками багрового цвета. Быстро собирались в помещение Творцы со всей Станции и замирали в понимании своей беспомощности.
Под прозрачными колпаками бушевали два пылающих сгустка плазмы – ярко-алый и густо-фиолетовый. Внезапно сверхпрочный материал не выдержал, колпаки лопнули, рассыпавшись осколками по всему помещению, раня собравшихся, разбивая аппаратуру. И два огненных вихря взметнулись из тесноты лож. Слились, скрутились фиолетово-алым жгутом, который тут же свернулся в пылающий шар, весь окутанный языками пламени.
Лопнула верхняя оболочка, опадая фиолетовыми лепестками огня; следом – алые лепестки раскрылись. Всё новые и новые сферы раскалывались. Всё более раскалённым становился цвет опадающих лепестков, сгорающих, исчезающих бесследно. И вот из центра страшного огненного цветка вырвался белый сноп искр, рассыпался, растаял, как растаял, исчез и весь цветок…
… Мощный поток энергии невидимой, но озаряющей светом величайшей любви и нежности, очищающей, облагораживающей, пройдя свободно сквозь прочные стены Станции, устремился к проплывающей на обзорном экране беззащитно-голубой Планете…
Торжественно опустились Творцы на колени вокруг места последнего Священного Слияния своих товарищей. Они знали, что случилось.
Отняв у деревьев Планеты способность самовозгораться, Альхос и Ония сознательно пошли на самосожжение. Они успели вернуться, потом, пытаясь в последнем, пылающем Слиянии, возродить свои сущности.
Но… растаял, исчез огненный лотос, не в силах, из раскалённых искр, слепить, создать Плод Священного Слияния.
… Сумрачно вращалась в Космосе Планета, окутанная дымом угасших пожаров.
Альхос и Ония успели облететь всю планету, загасить все очаги.
На Станции наводился порядок, ремонтировалась аппаратура, повреждённая взрывом. Готовилась к Переходу новая пара Творцов. И ещё две пары прорабатывали каждая свой вариант. Нужно было спасать водные пространства, воздух и недра.
**********
А на Планете, в небольшом провинциальном городе, звучала в эфире передача с нелепым названием «наши таланты». И рвался из репродукторов отчаянный, чуть надтреснутый, голос поэта Андрея Осина:
Чернобыль полыхает страшным сном.
Моря гниют под чёрной плёнкой нефти.
Доколе будем, после катастроф,
Доискиваться: кто же там в ответе?!
Мы, люди – население Земли –
Ответственны! Не инопланетяне!
Так как же так сумели, как смогли
Планету изуродовать, изранить?!
Не научившись ею дорожить,
Обезобразив облик всей Планеты,
Покинем мир. А как же будут жить,
Дышать чем будут наши с вами дети?!
Что им оставим? – Мёртвые моря,
Засоленные земли и пустыни,
Где миллионы факелов горят?
И – жизнь сгорает в пламени том синем!
Кто разрушает дом, в каком живёт?
Не варвар. Так ведь хуже нет прозванья.
Кто прерывает собственный полёт
На высшей точке сладости познанья?
И мы сейчас – на лезвие ножа.
Один лишь шаг…
Один лишь шаг остался!
Куда его направить – нам решать,
Чтоб не последним шаг тот оказался.
… Иглой тревоги сердце проколю:
Да не пойти путём нам безвозвратным!
Я сердца боль в стихи свои волью –
И пусть мои стихи звучат набатом!
г. Керчь
1996 г.
_________________

|